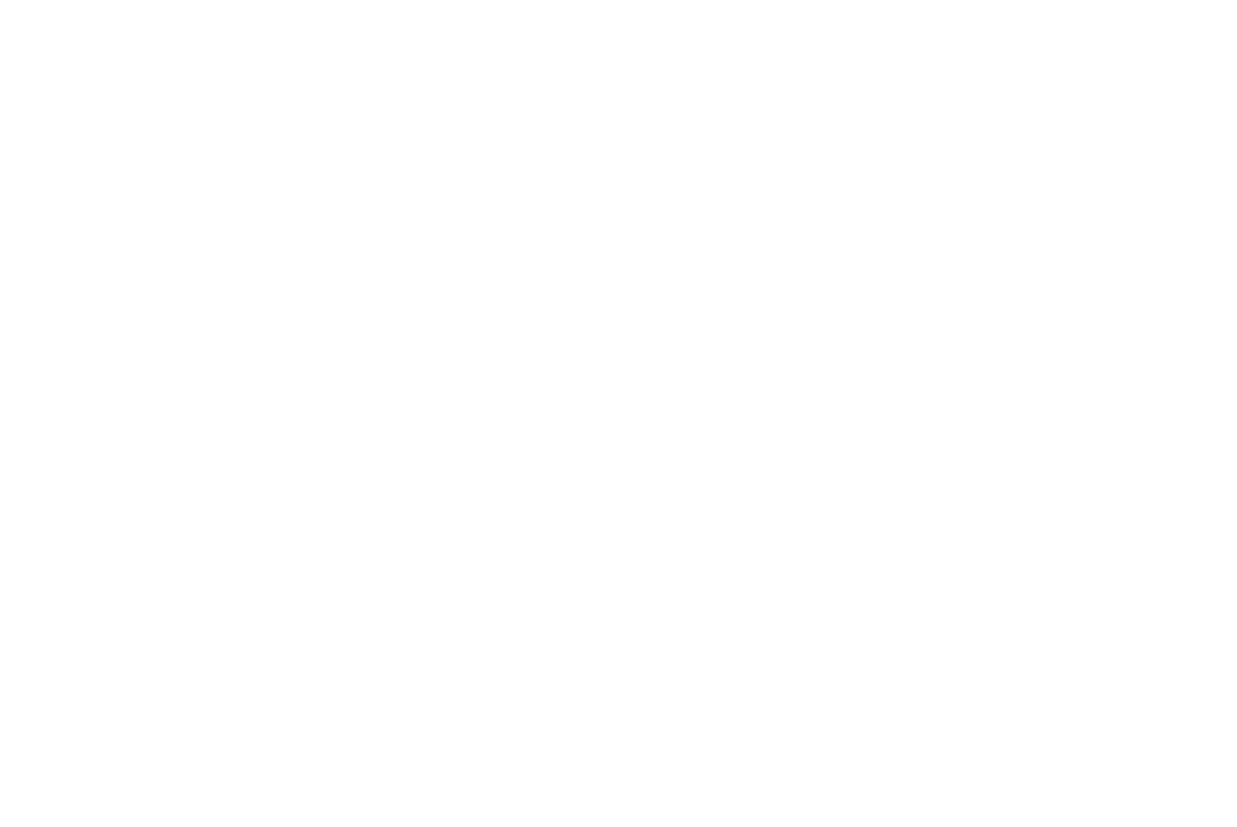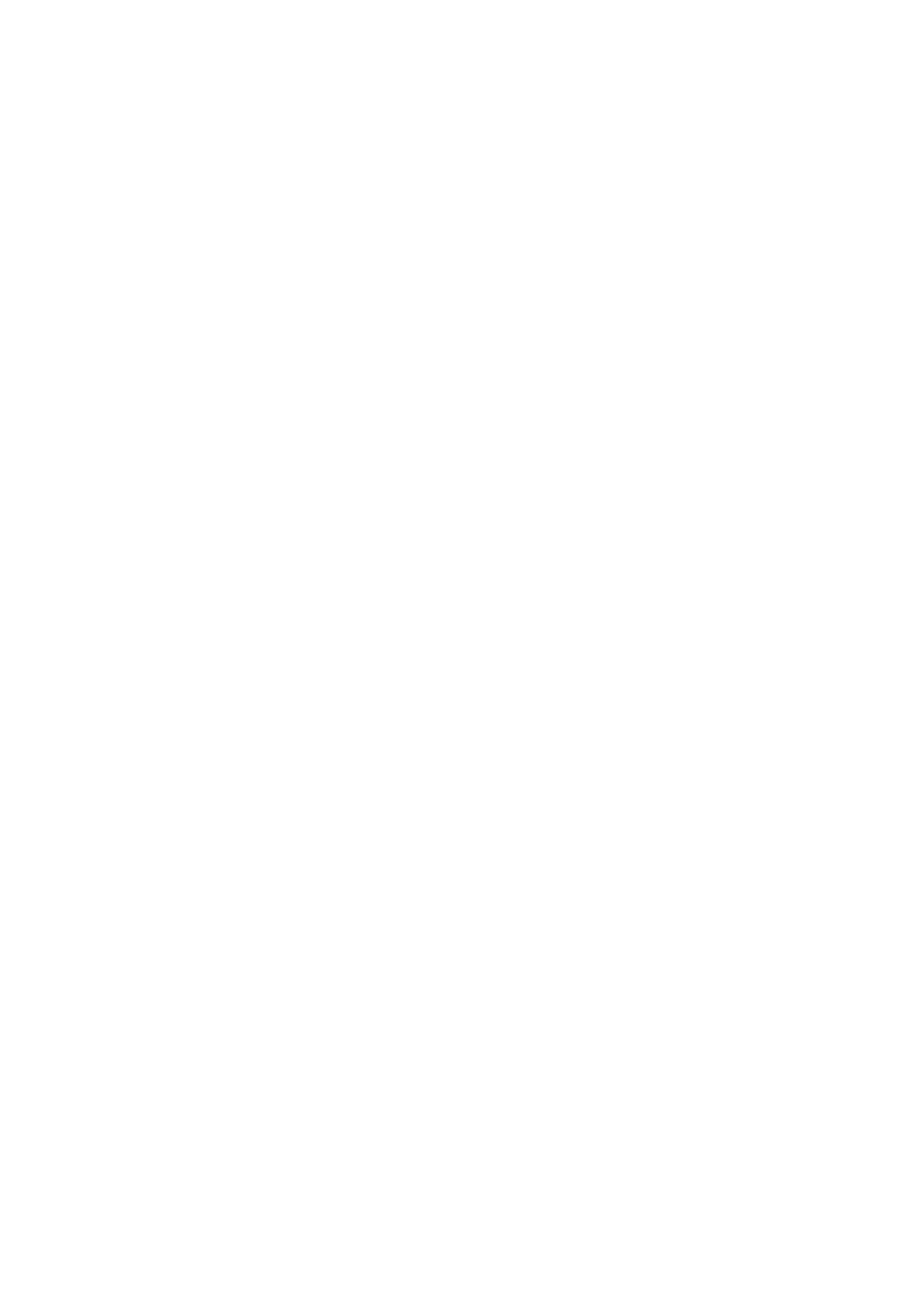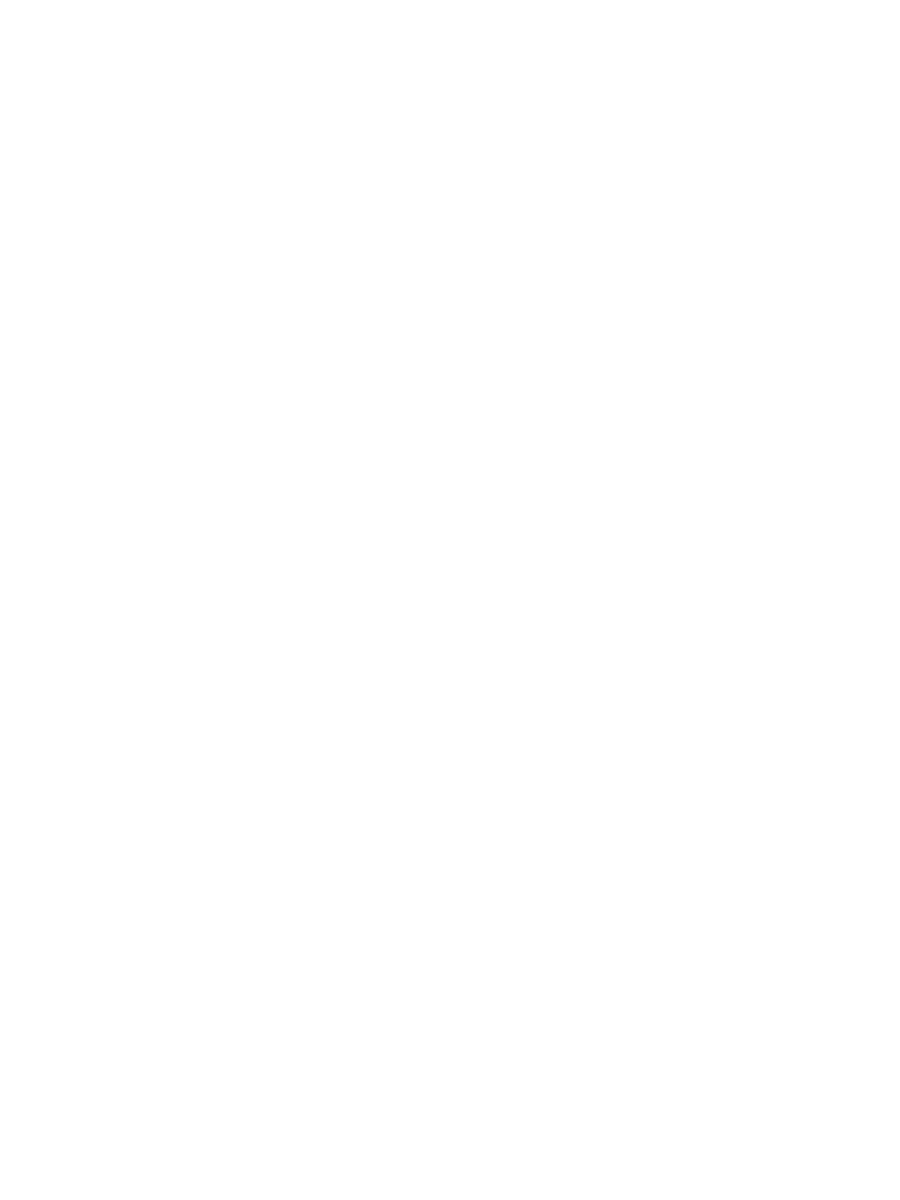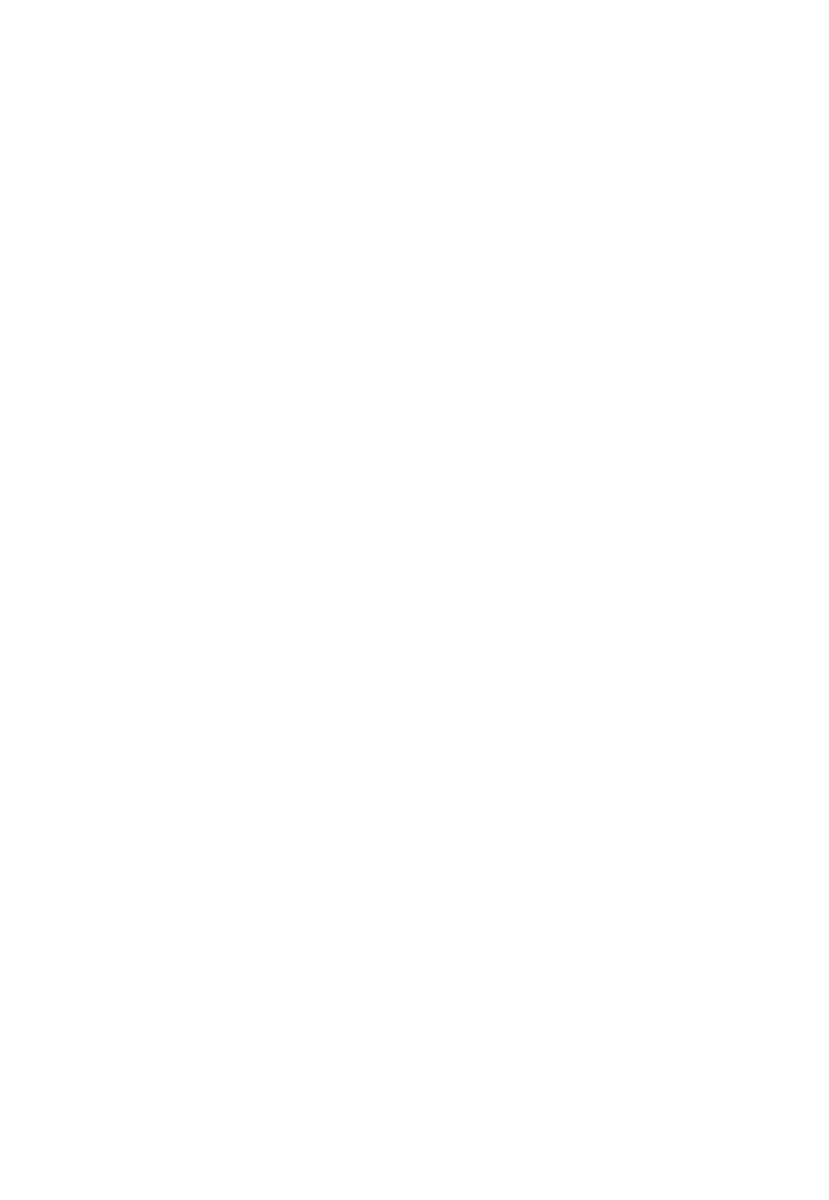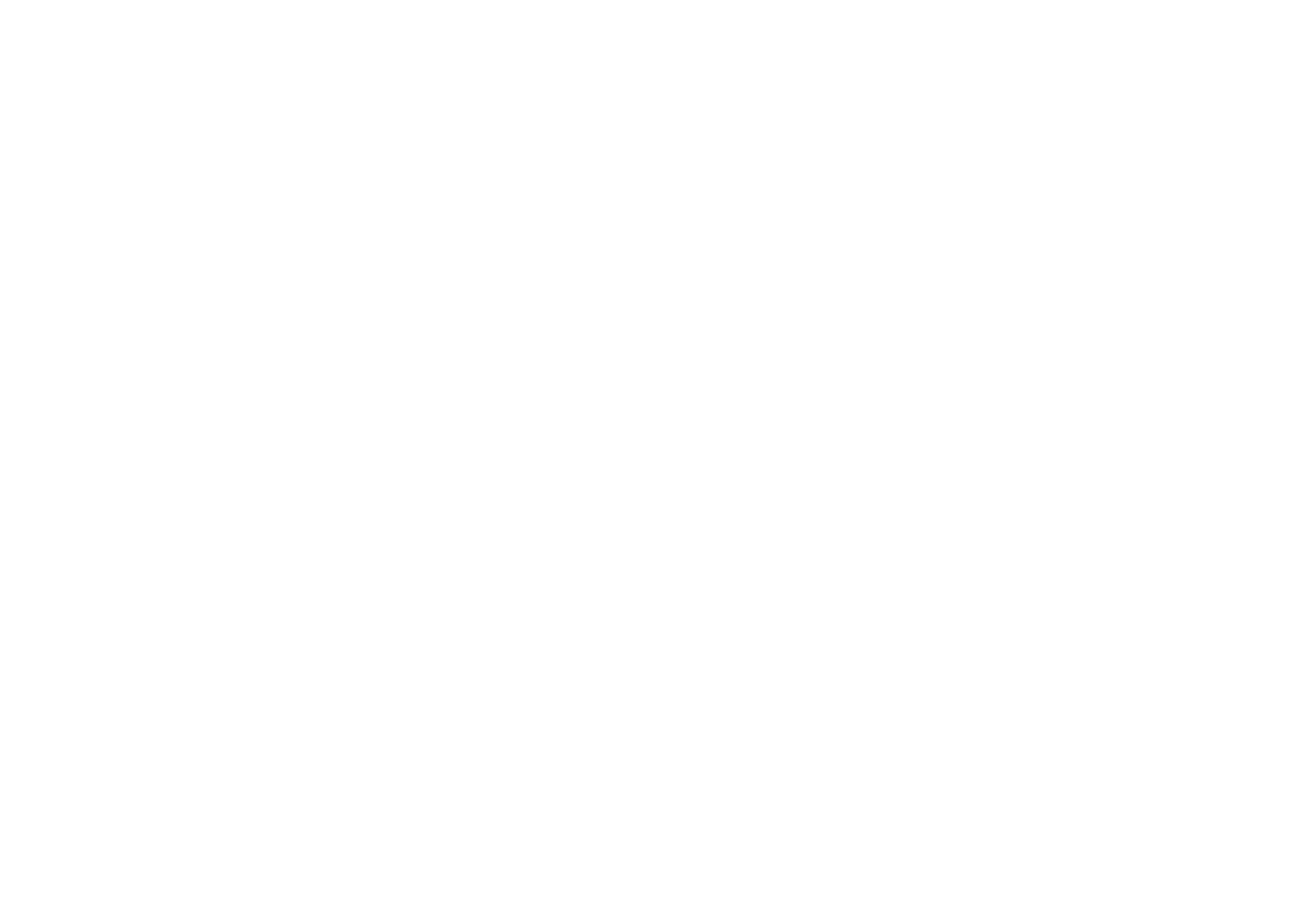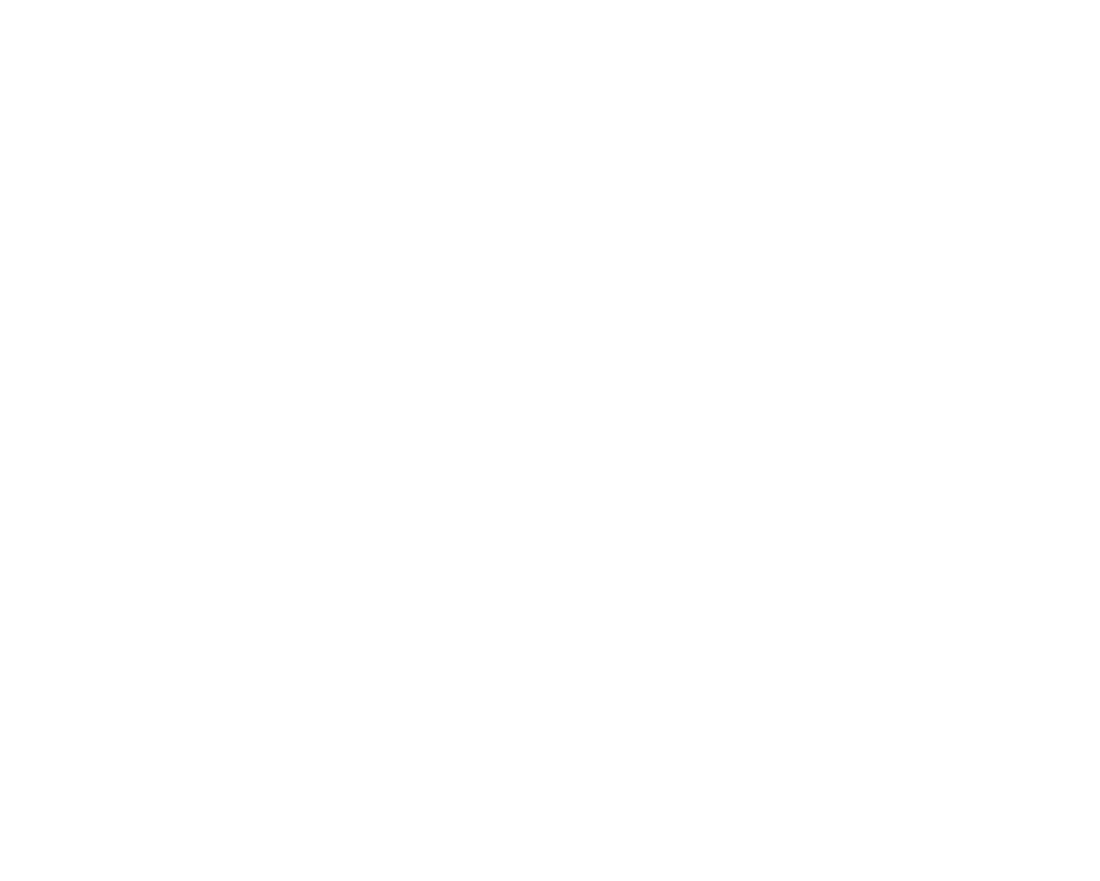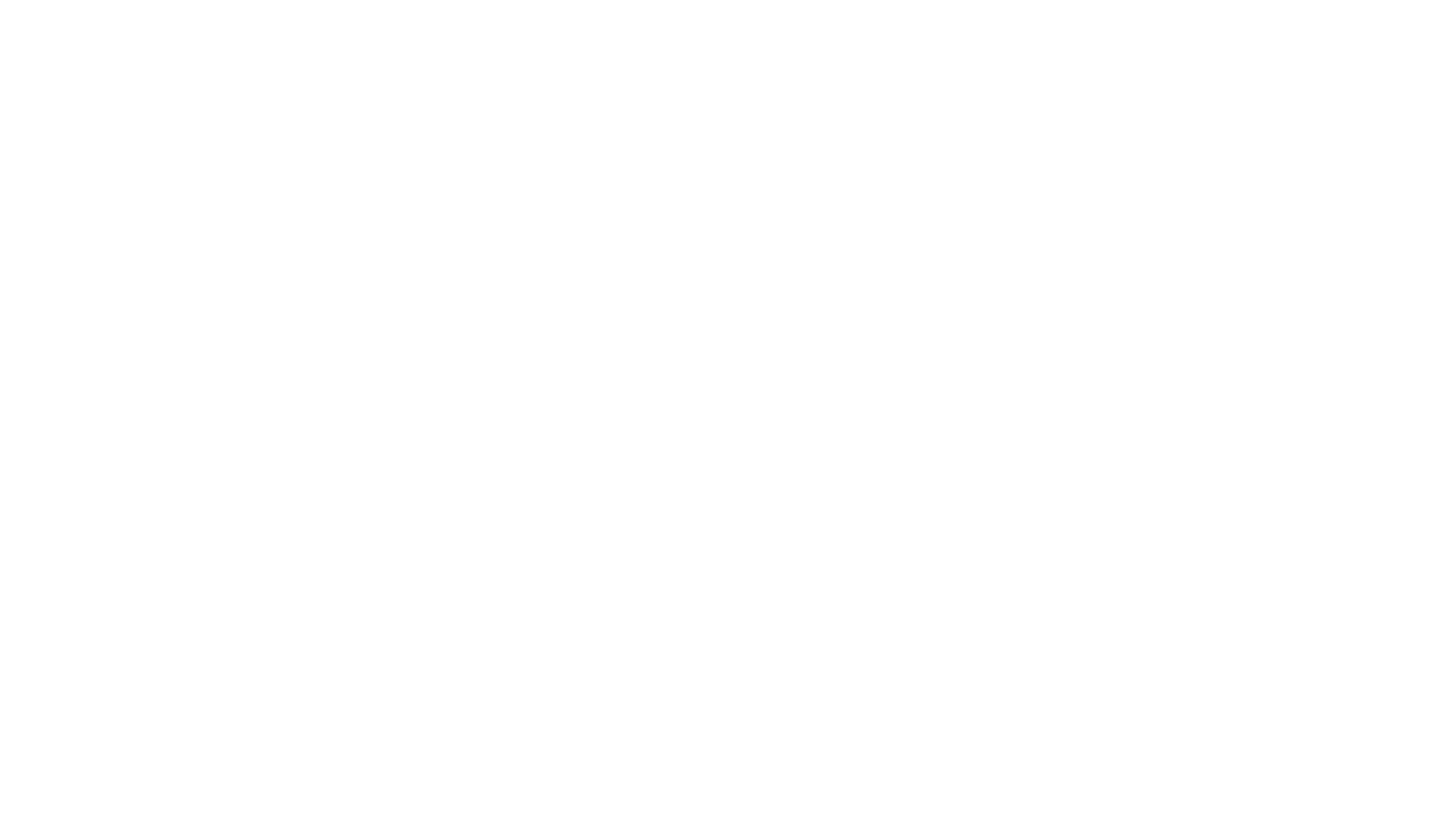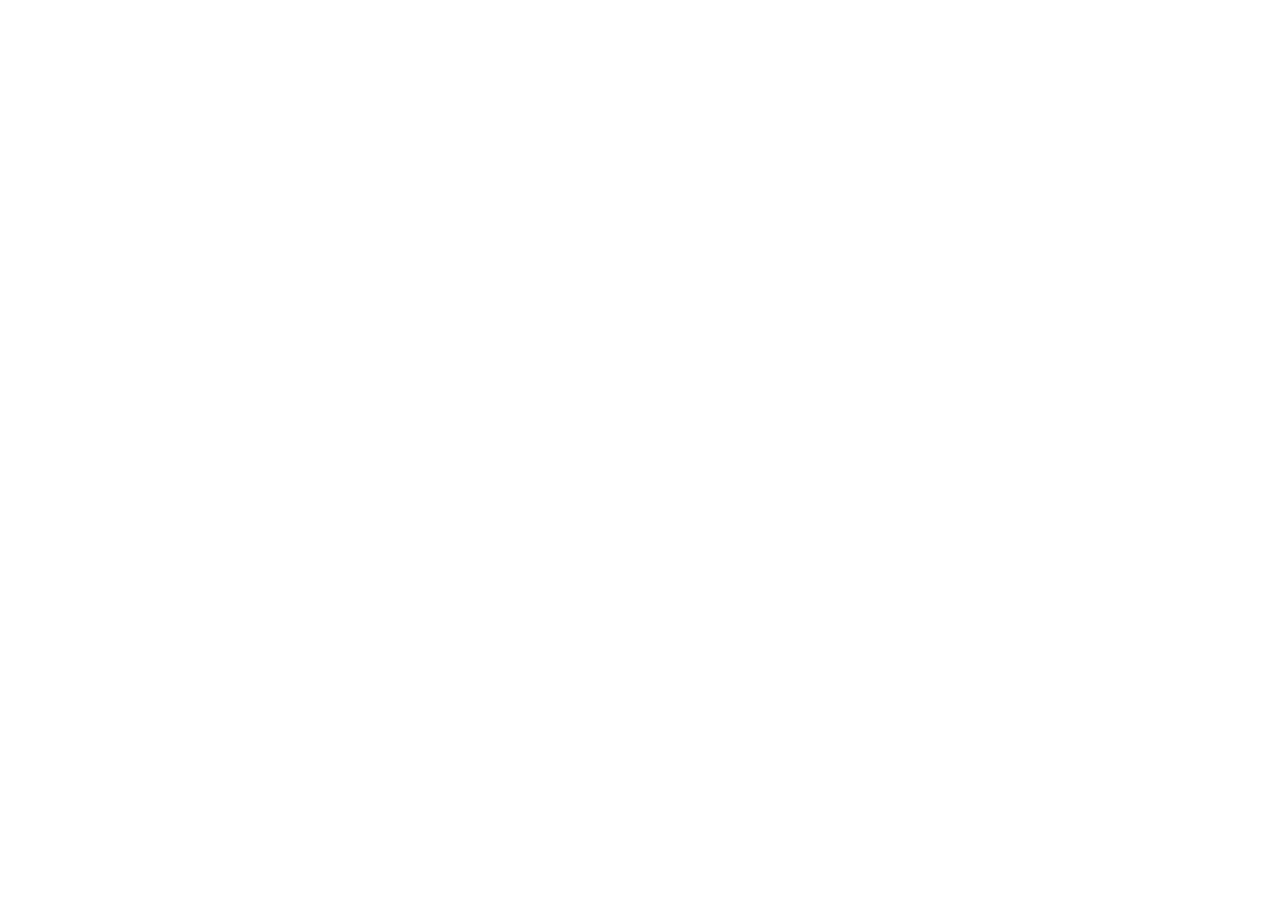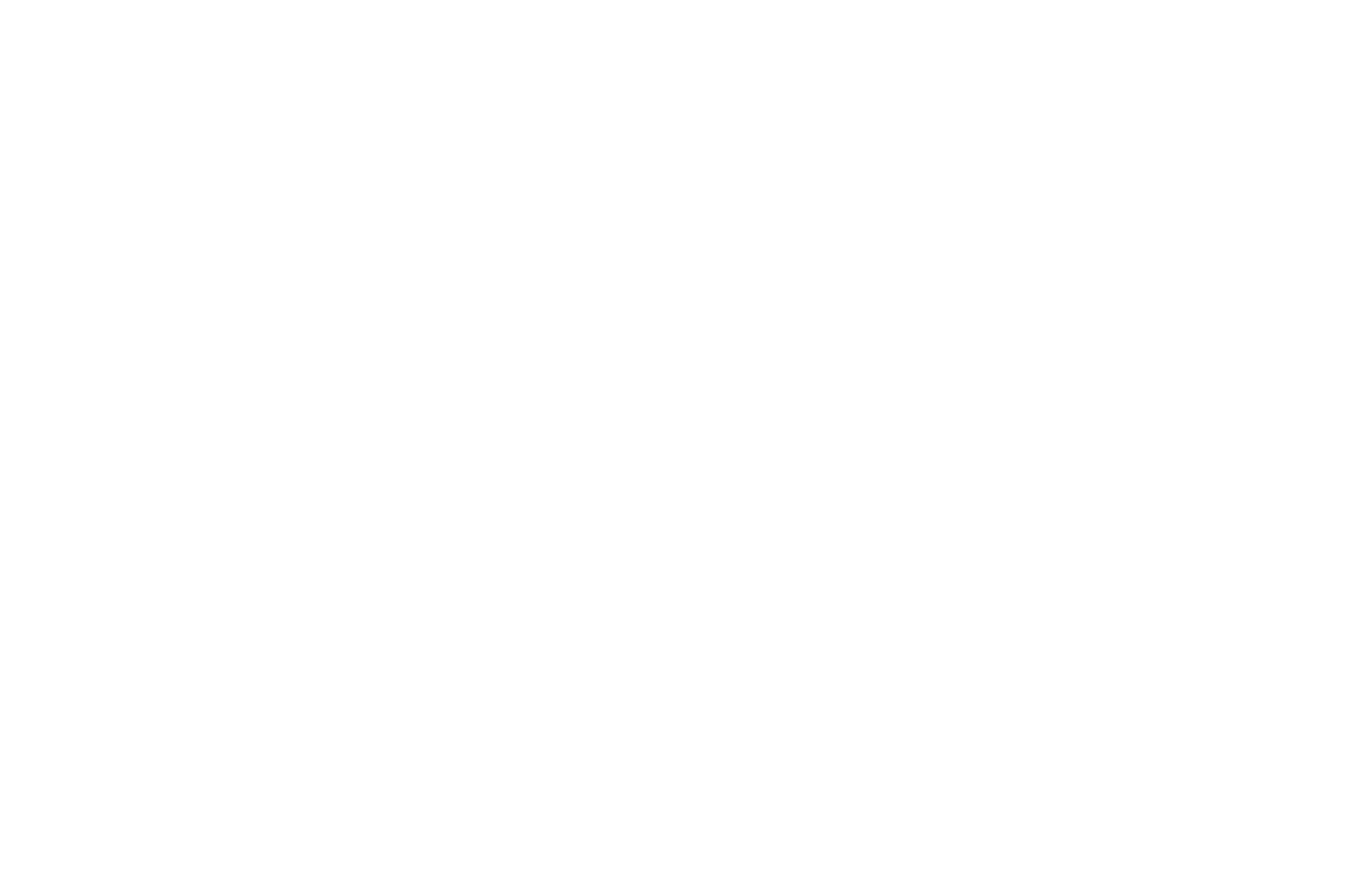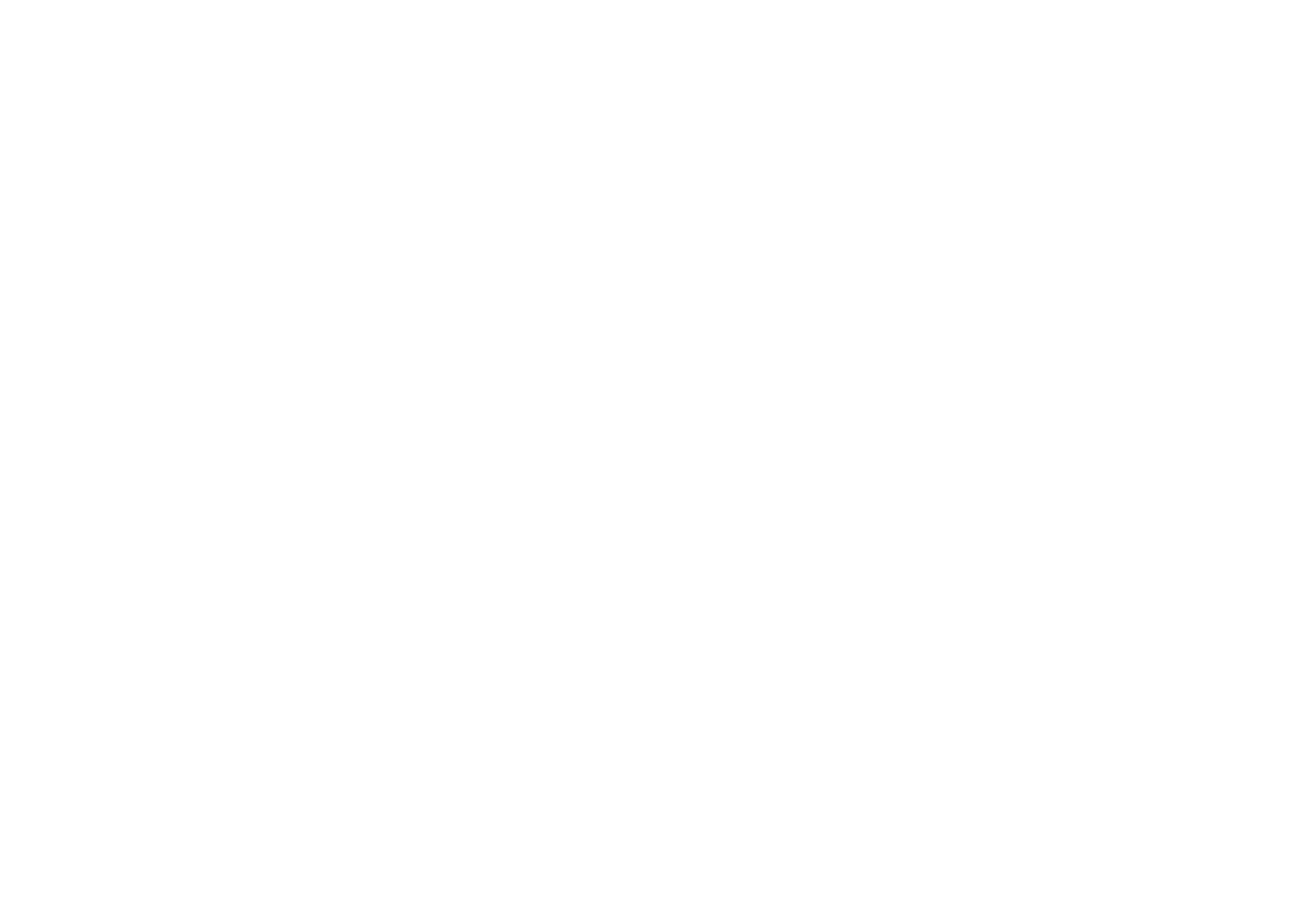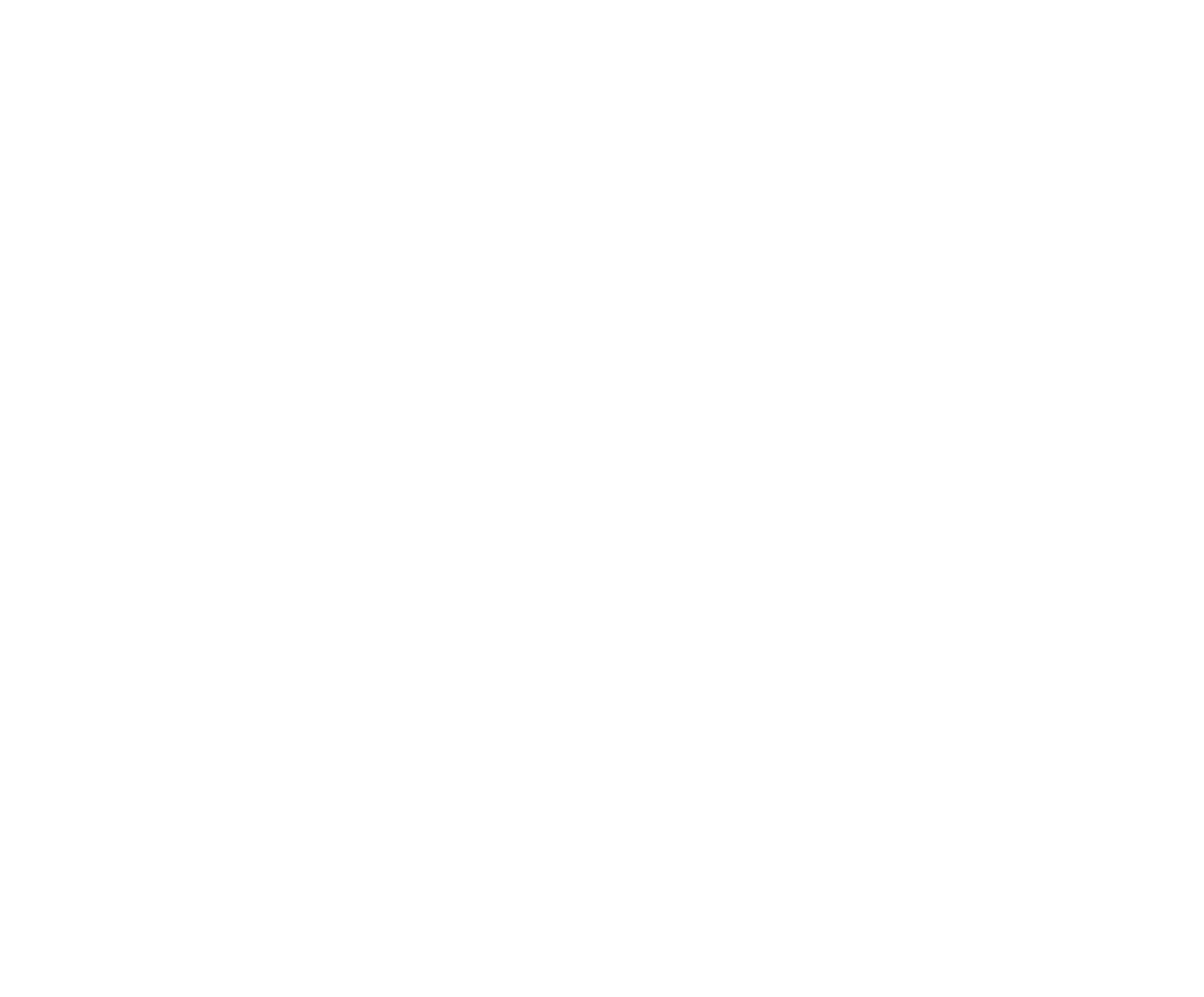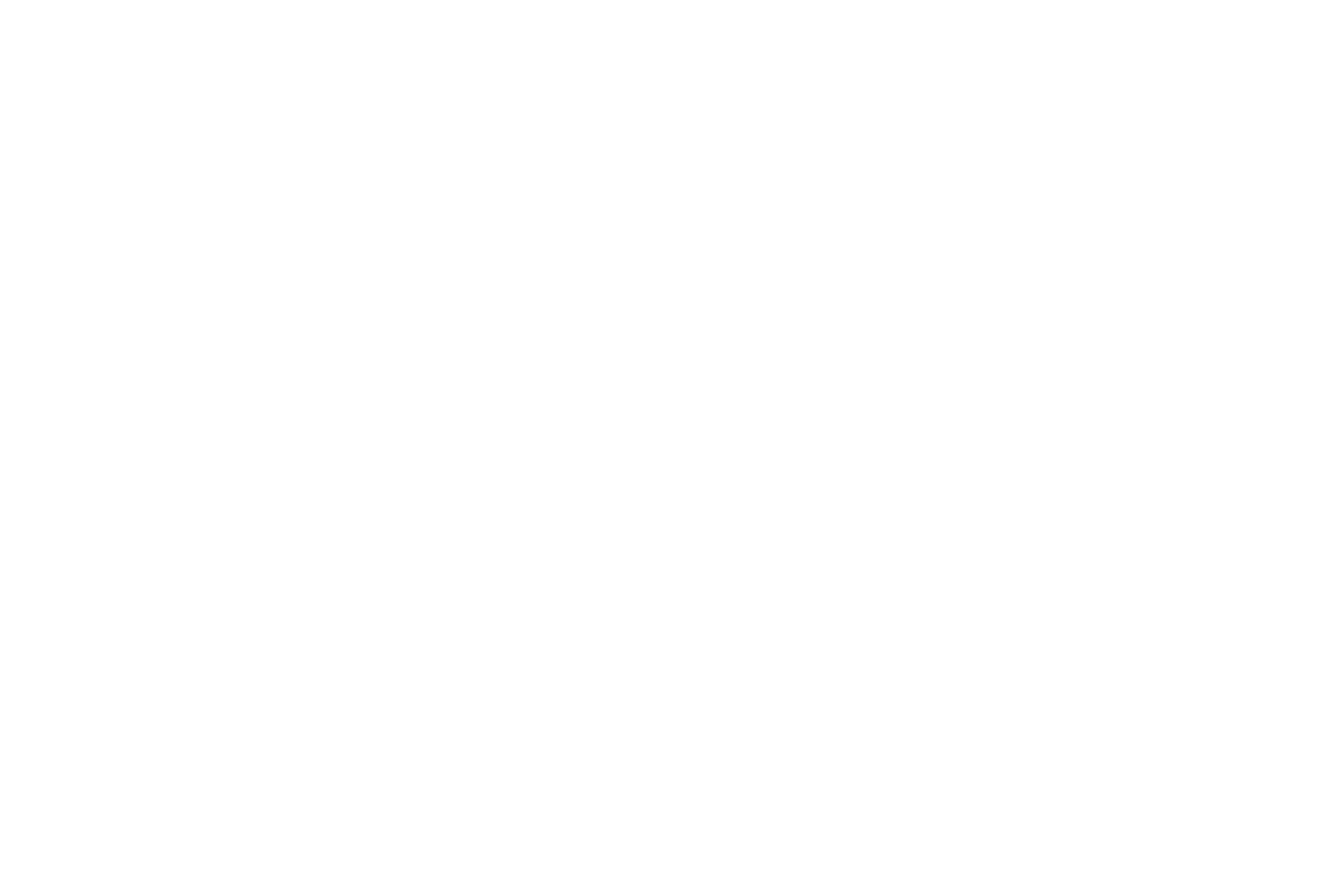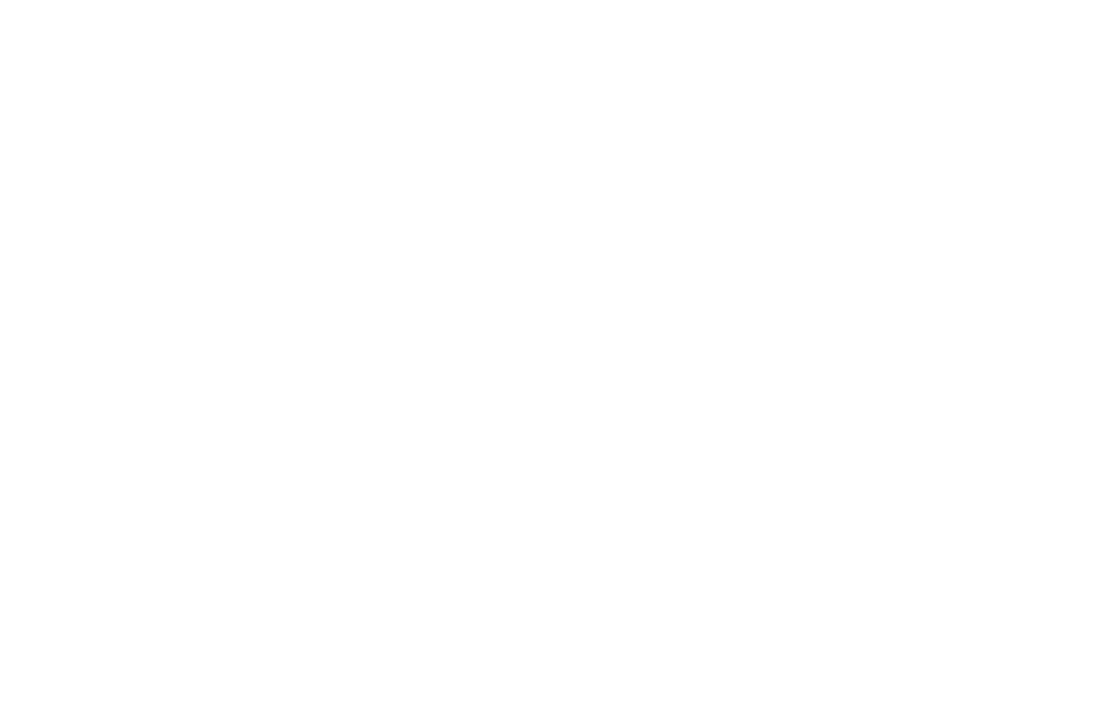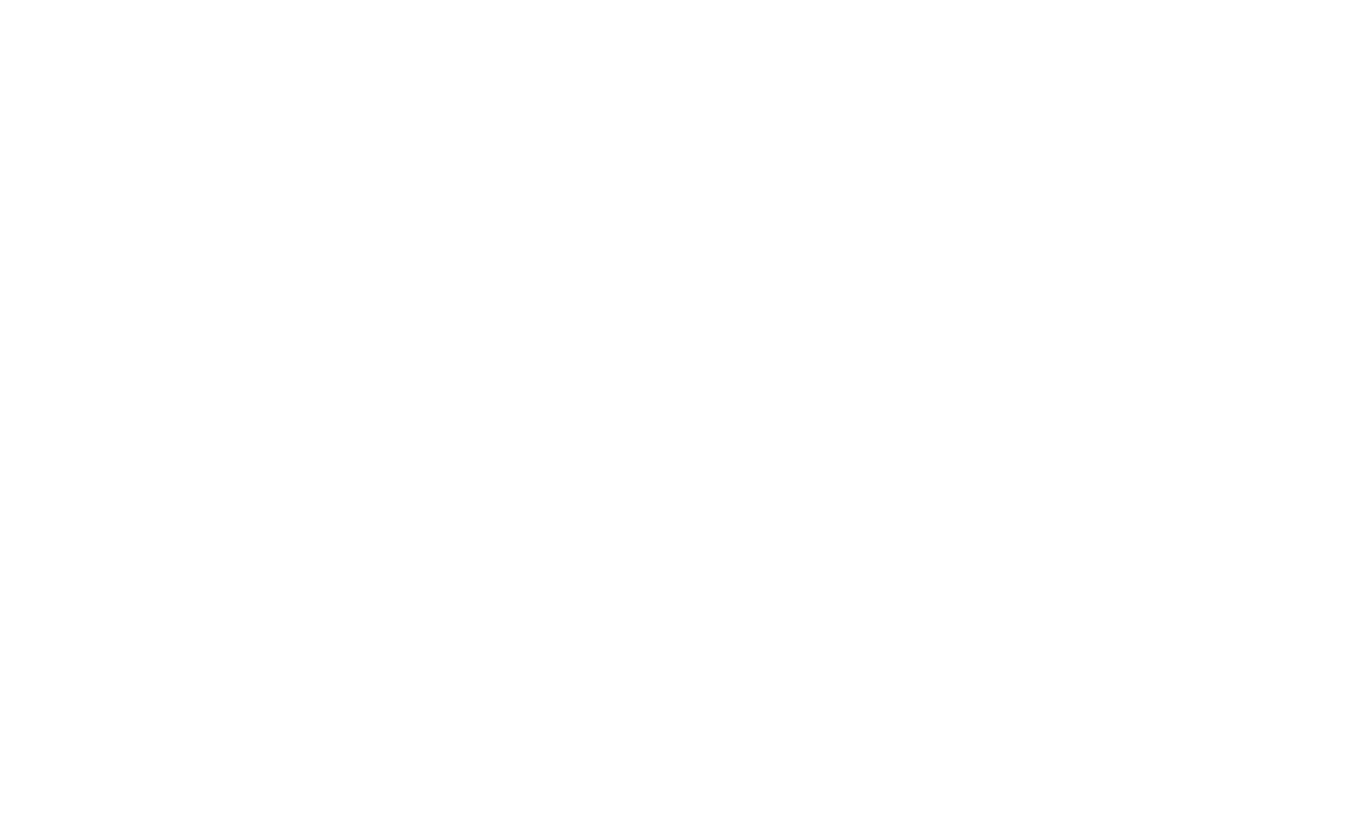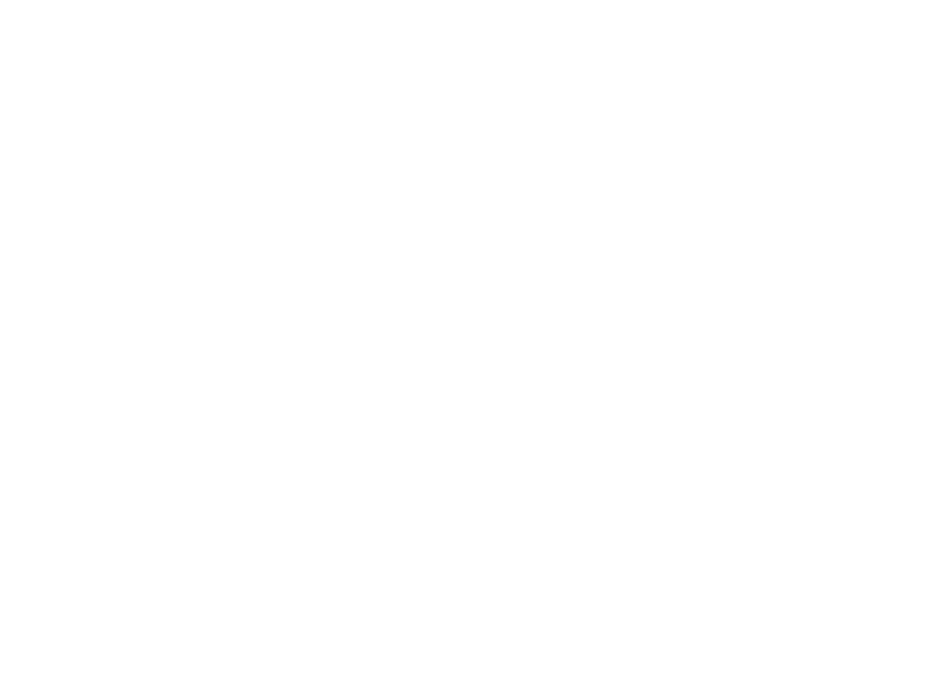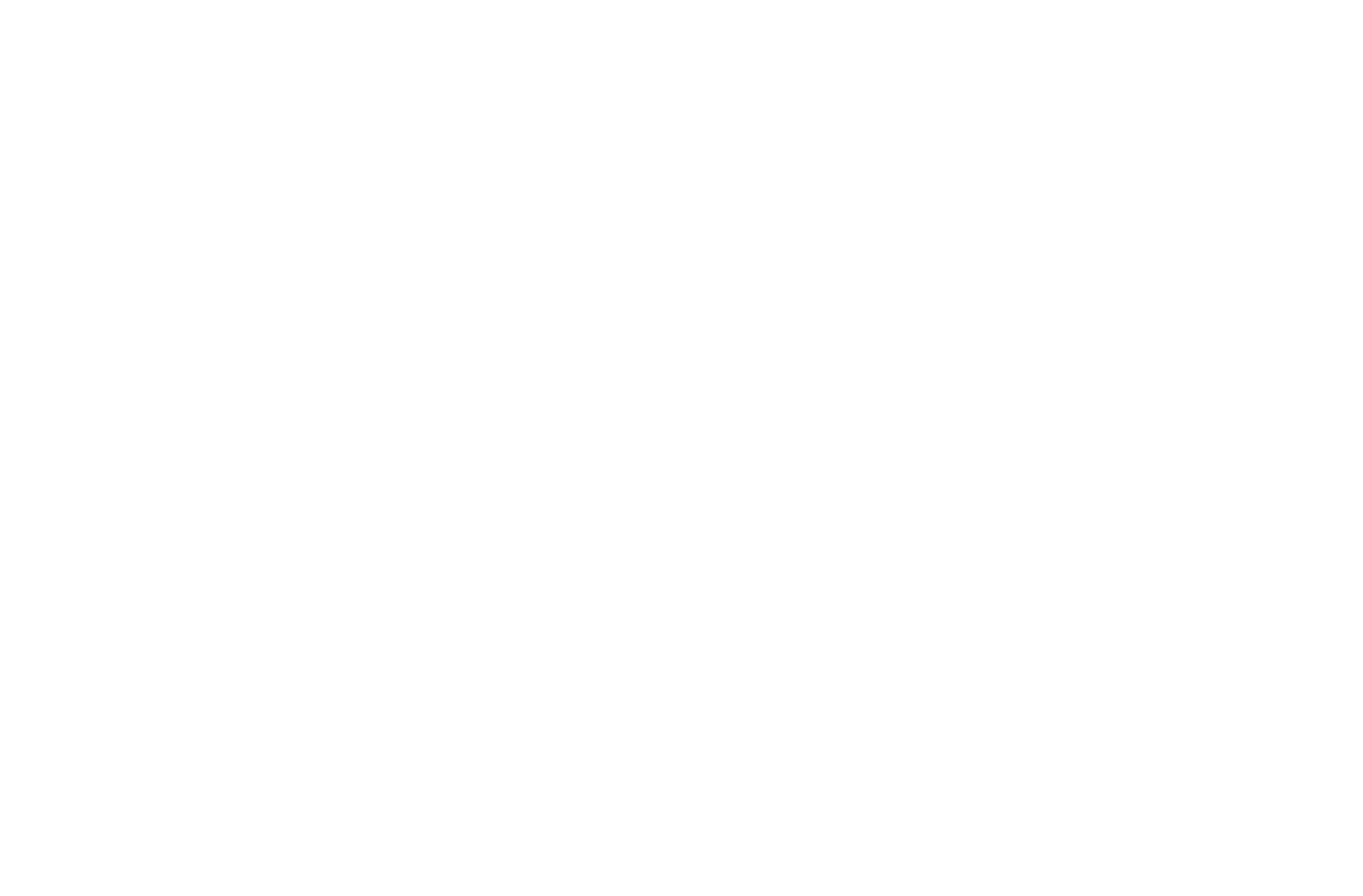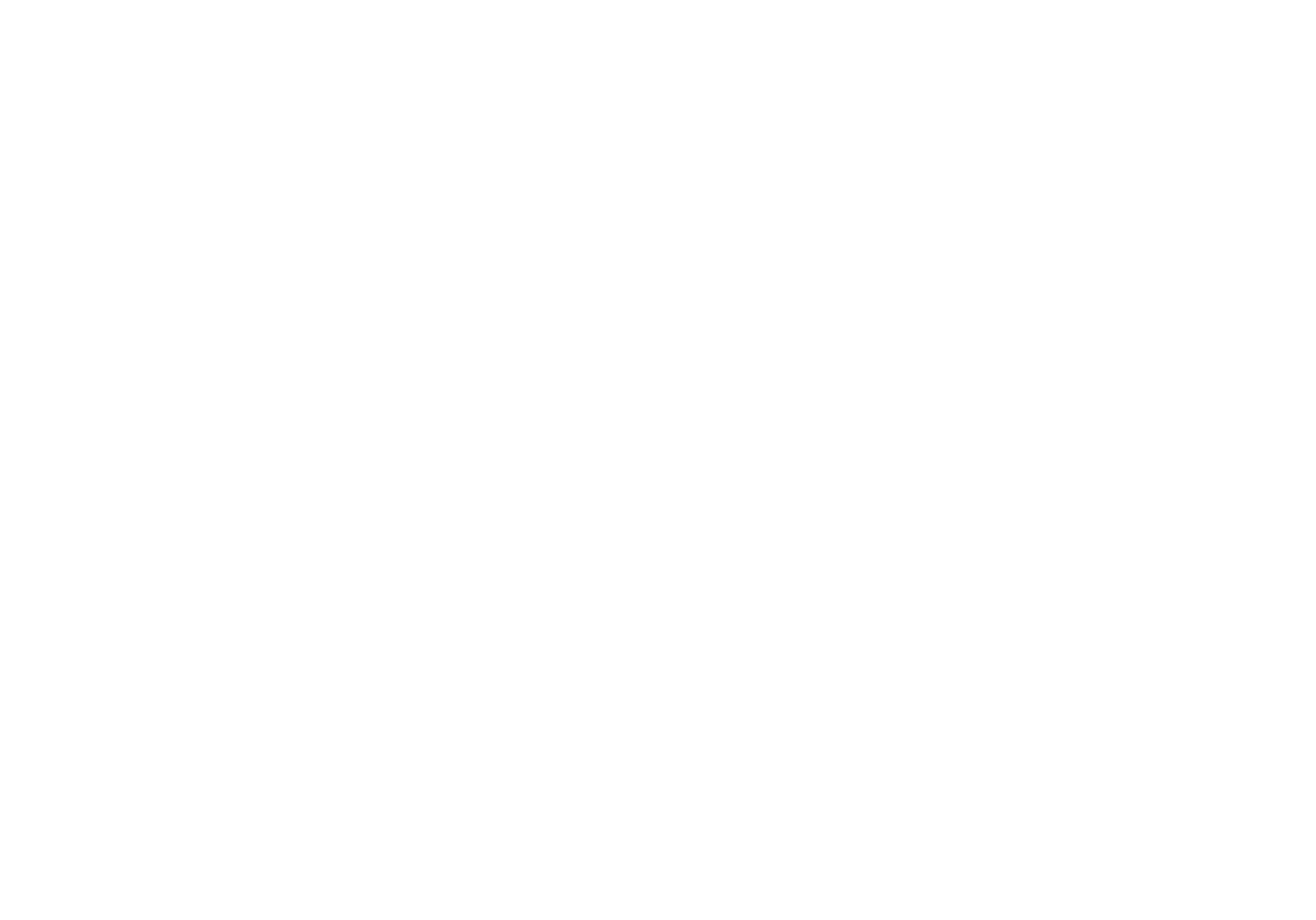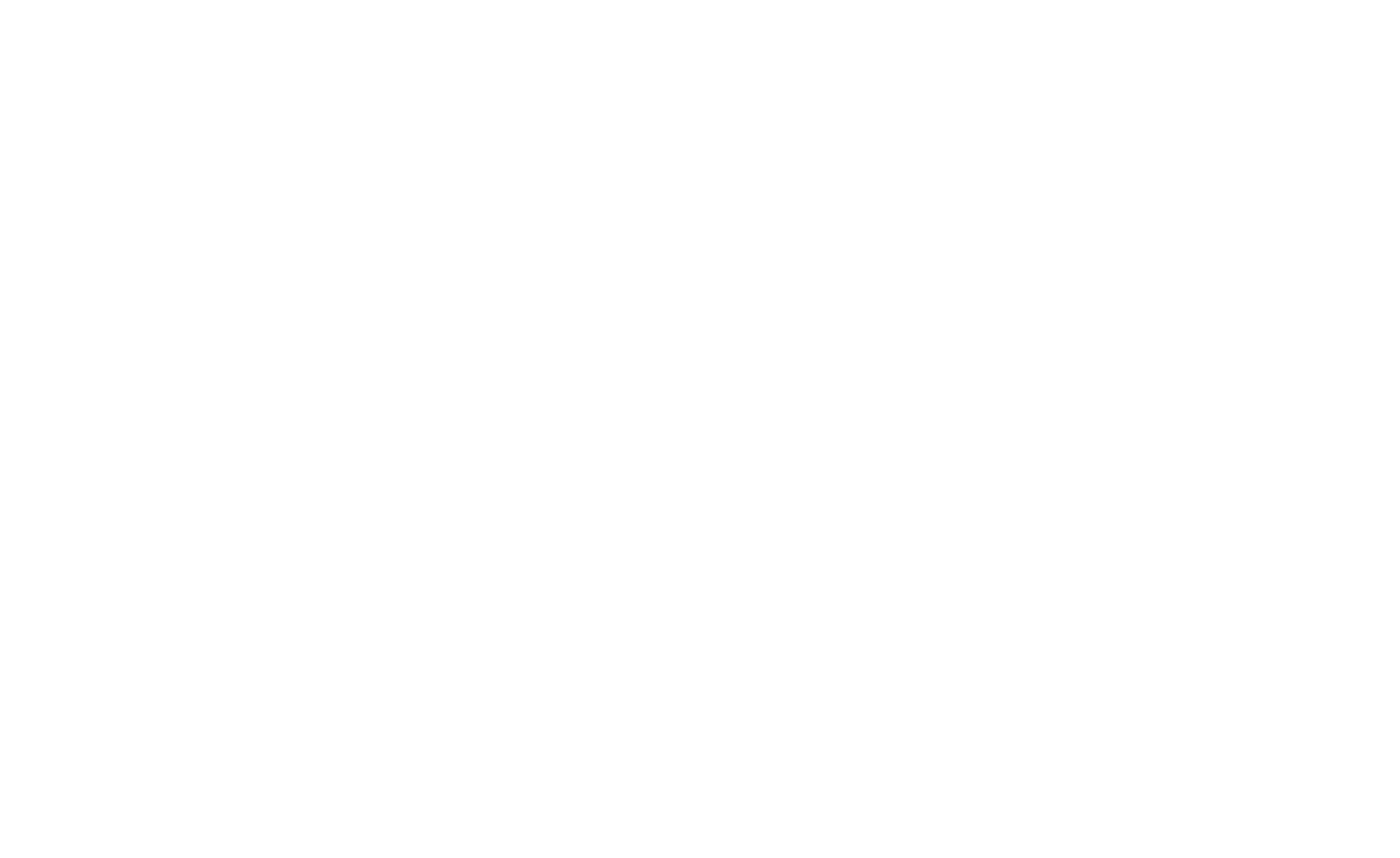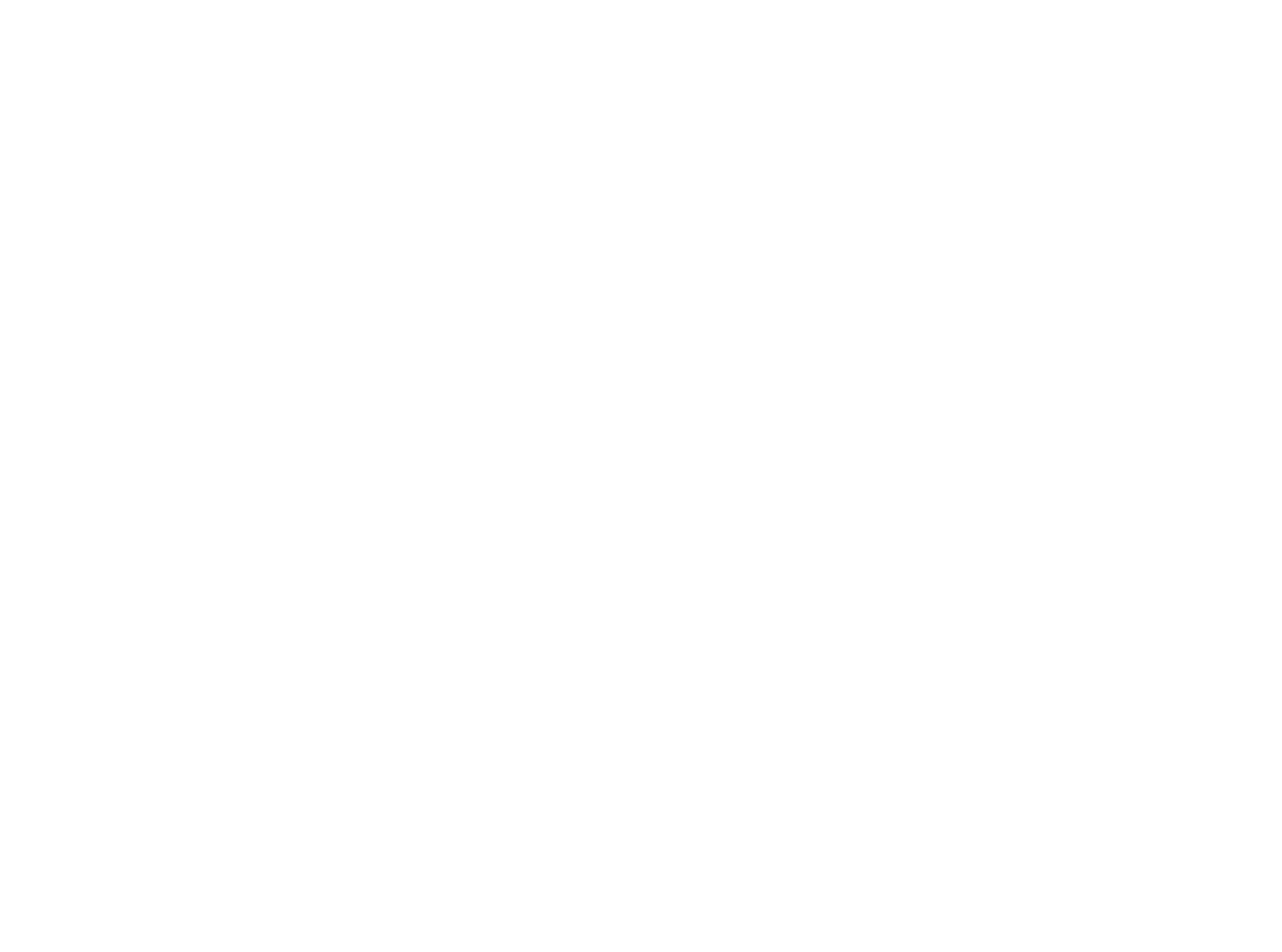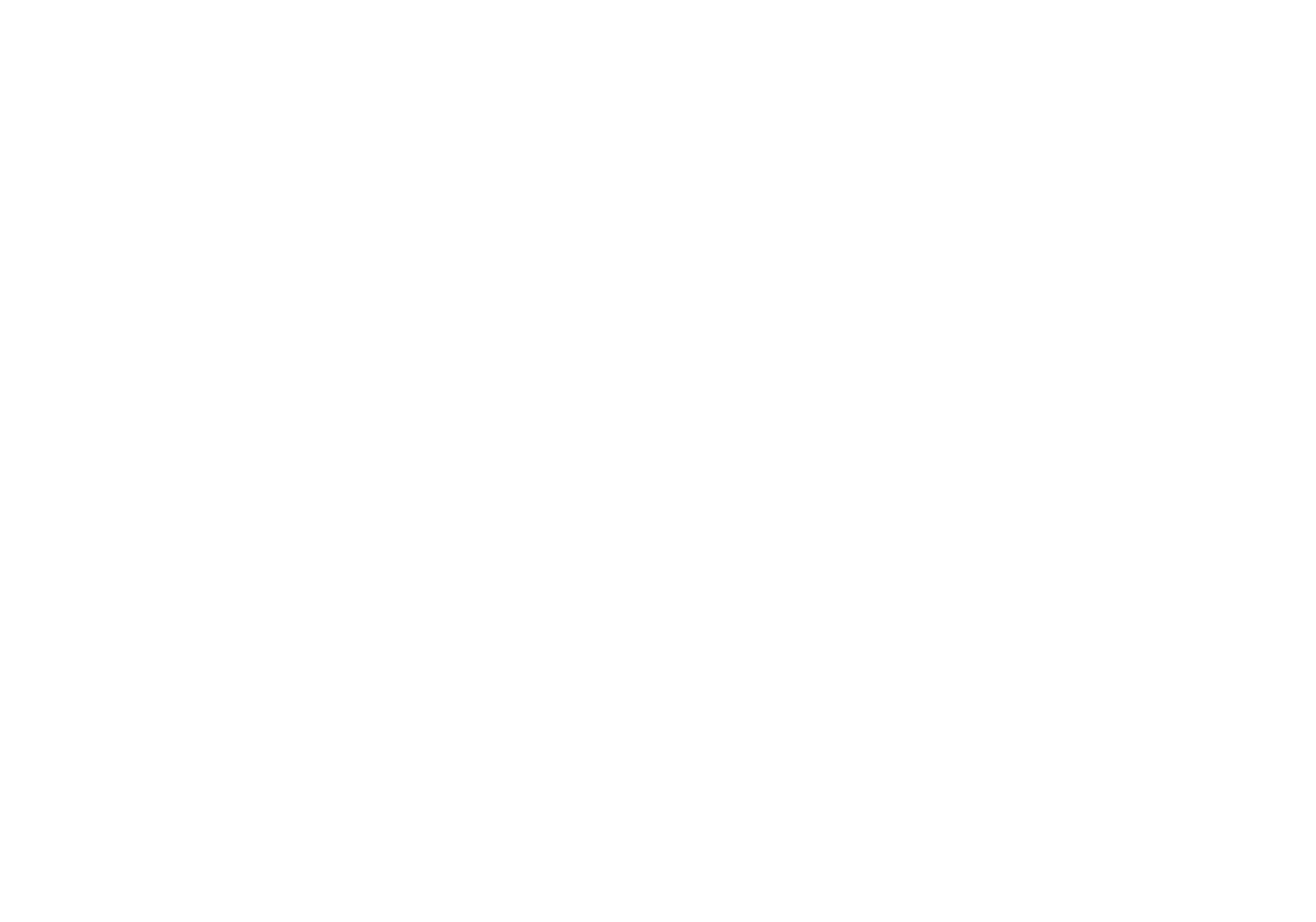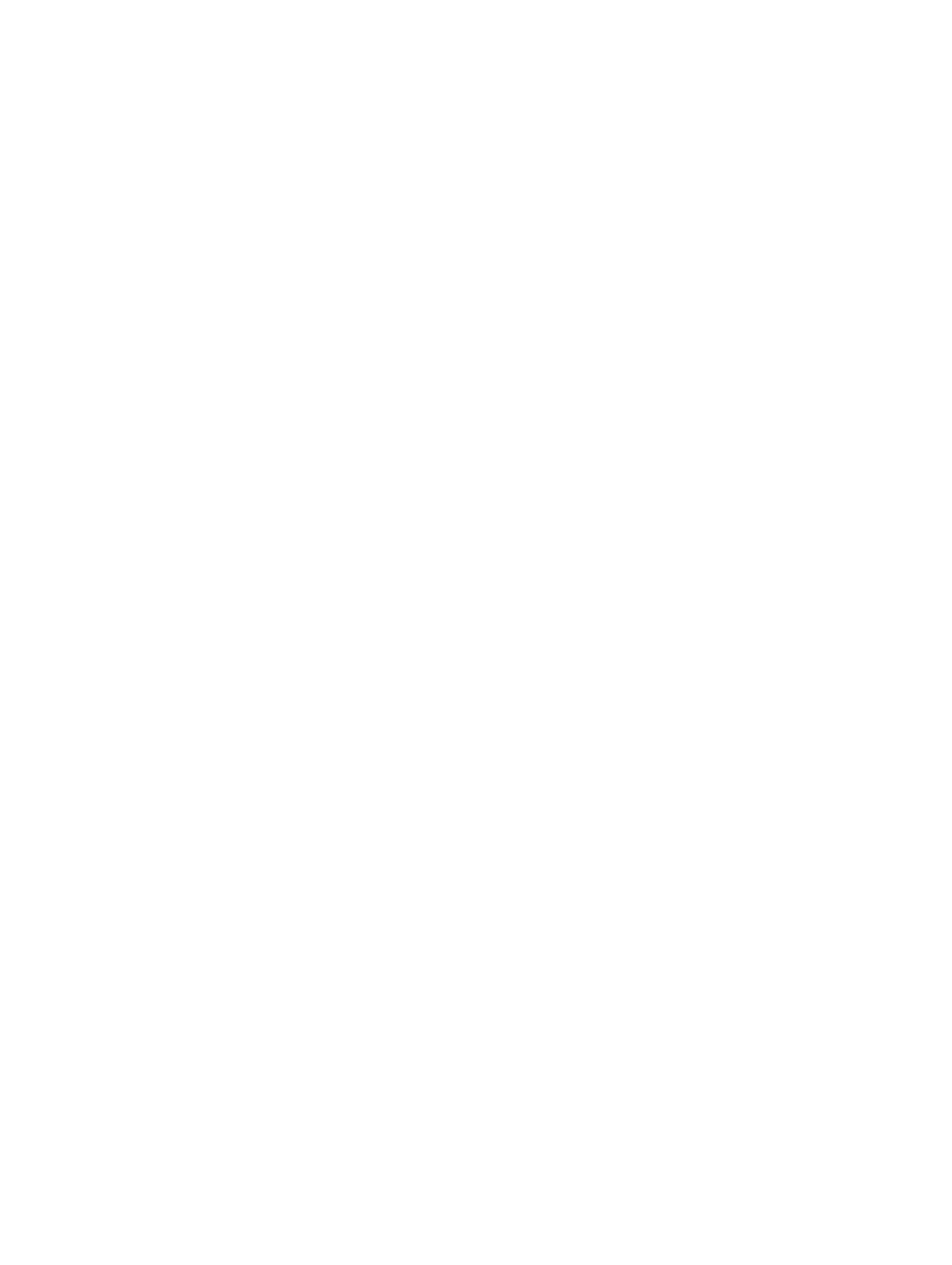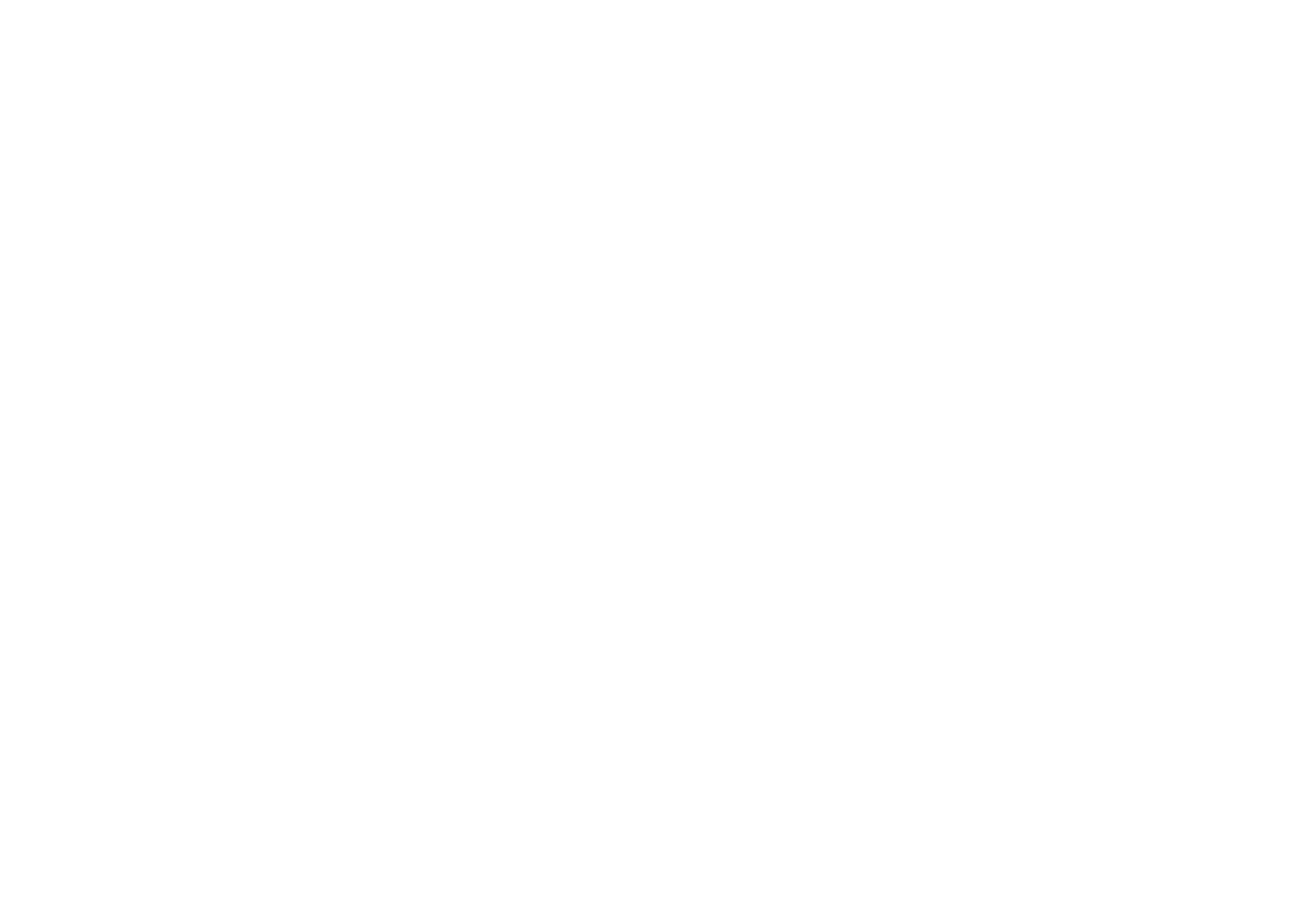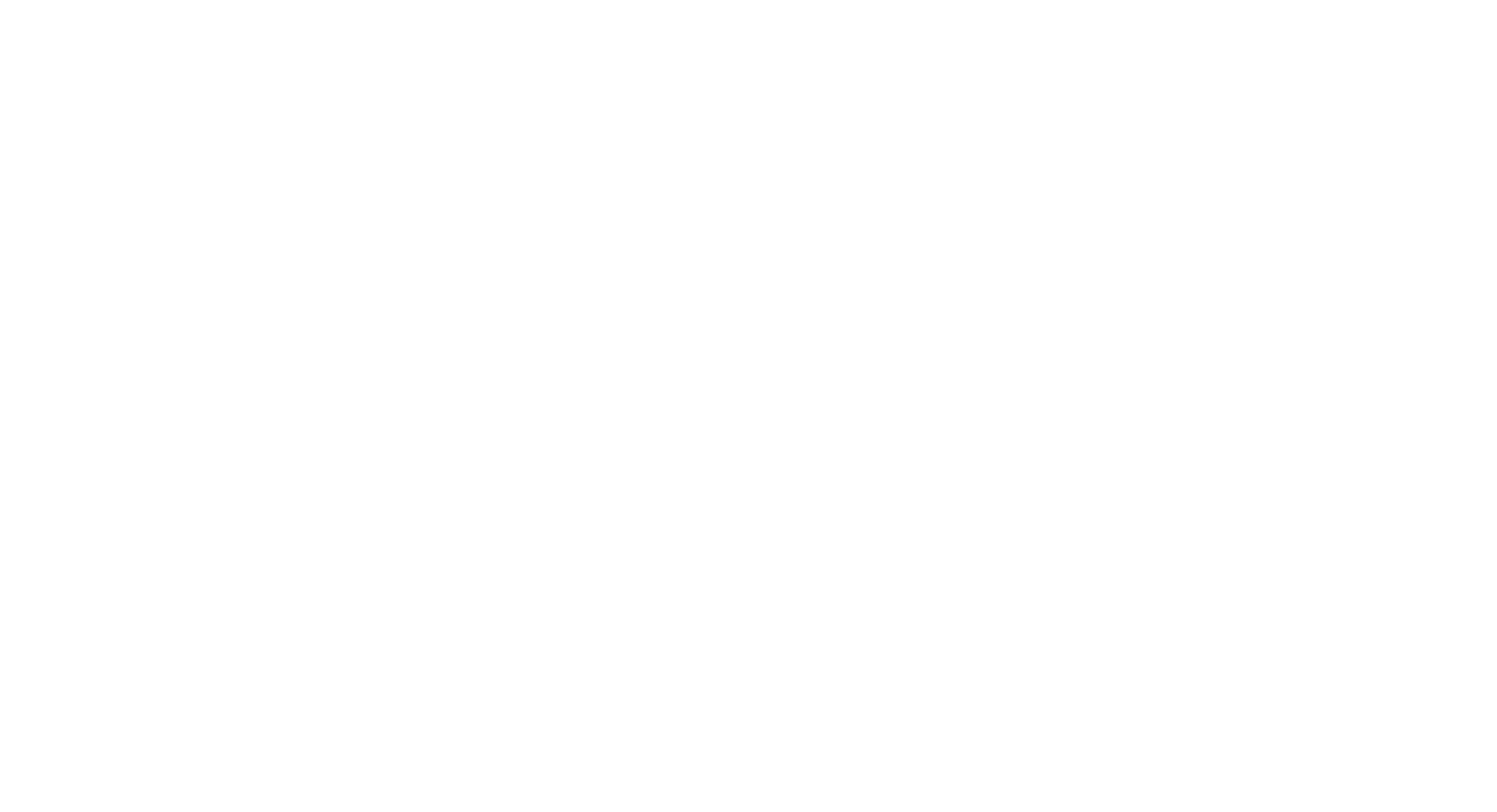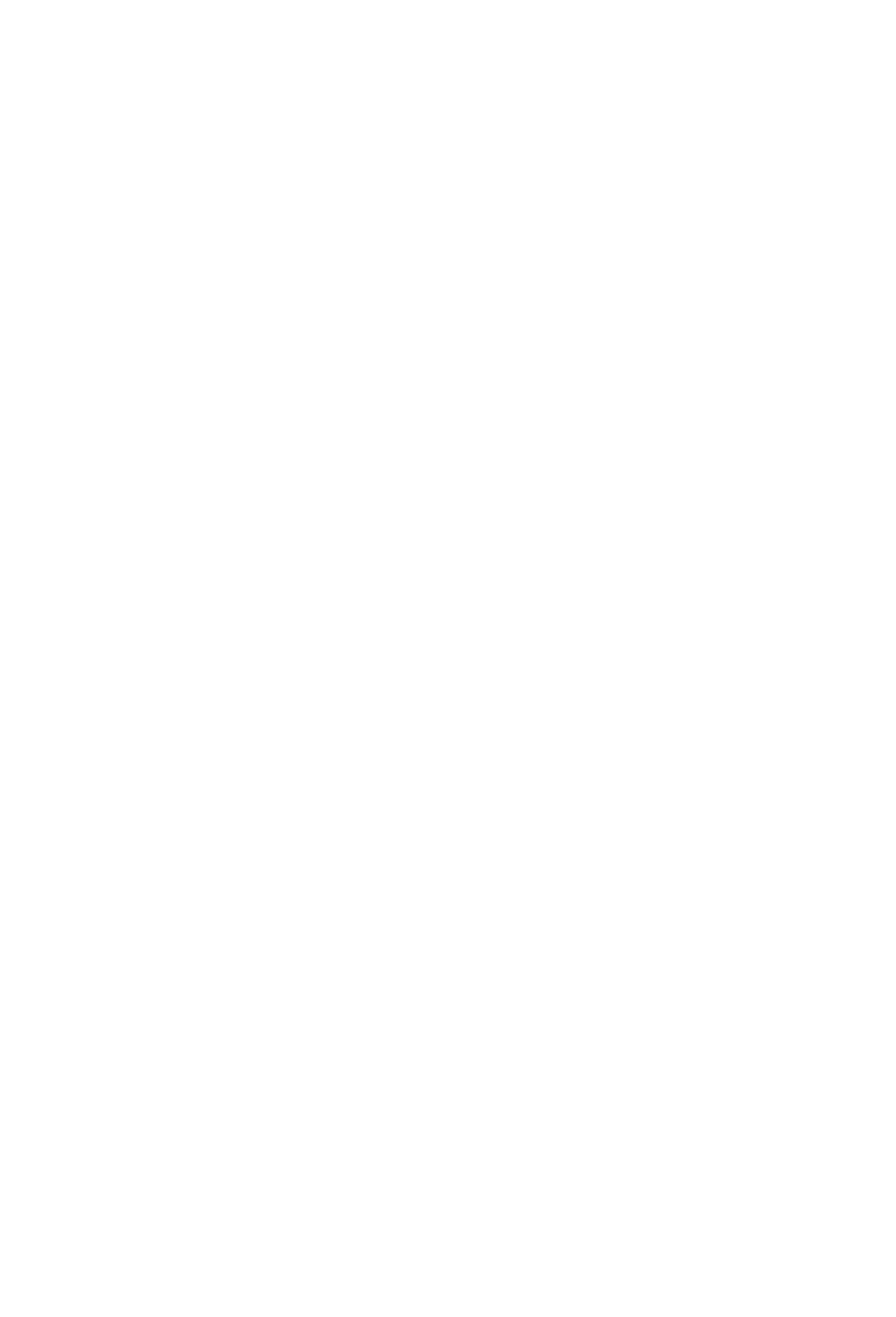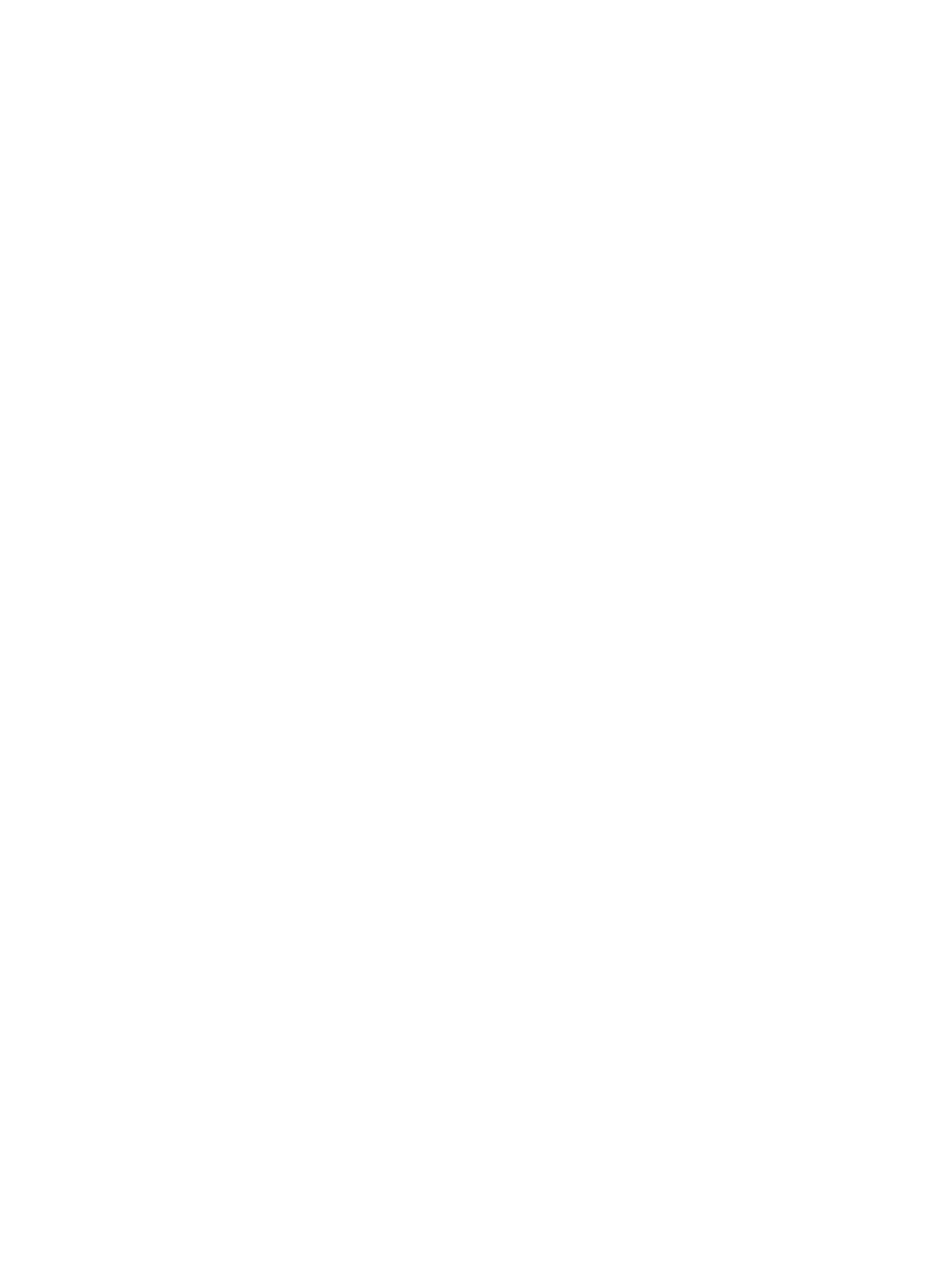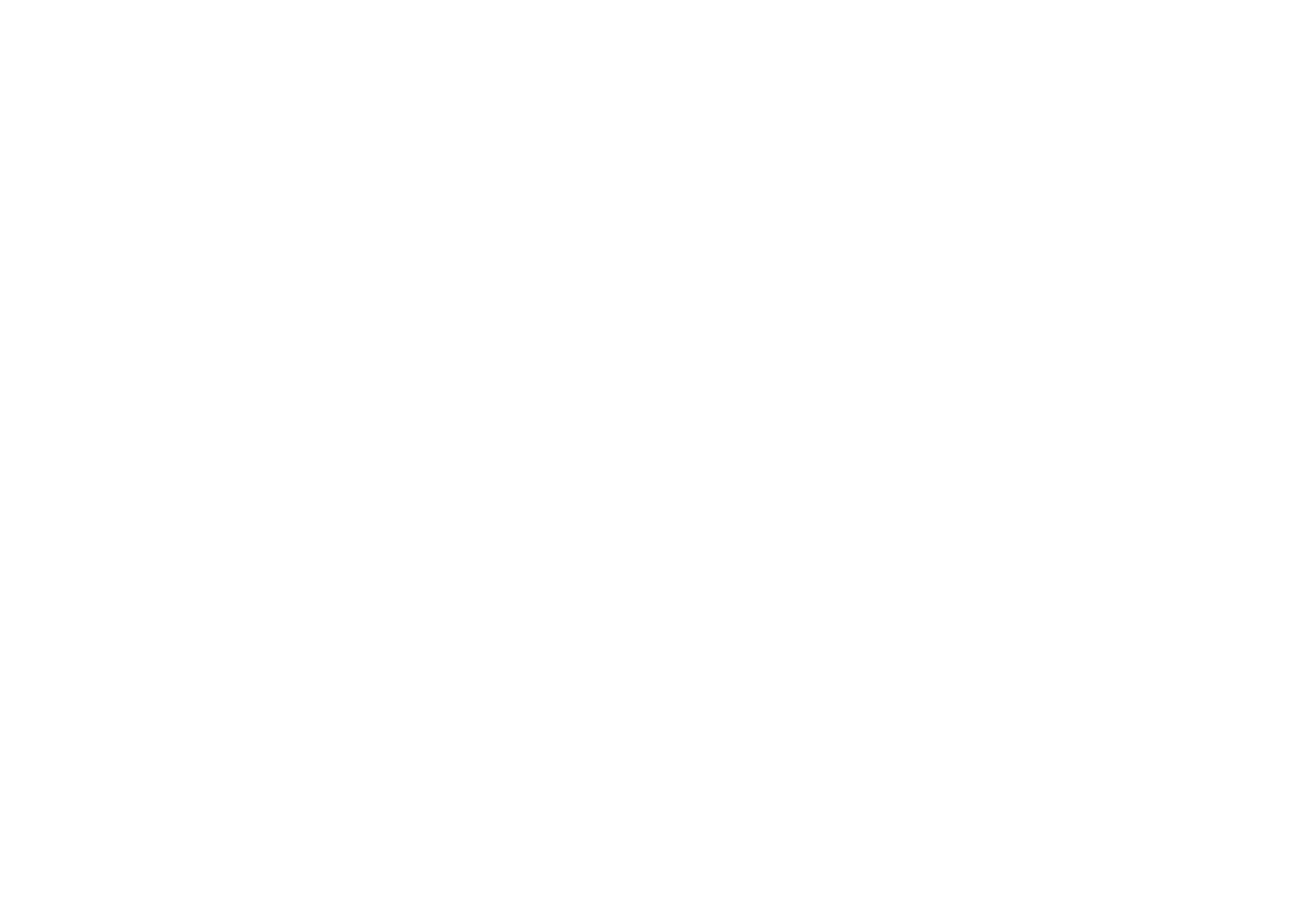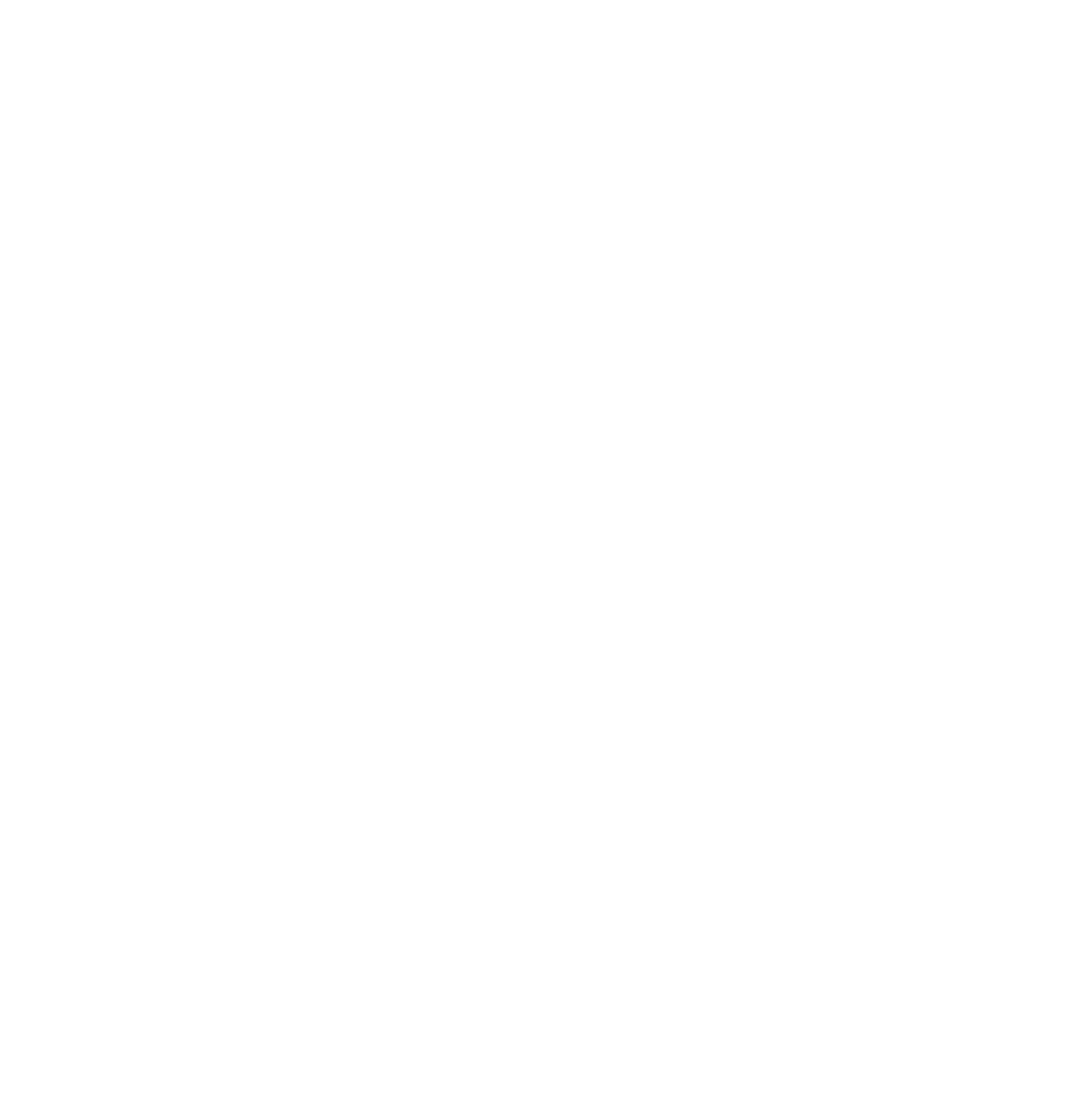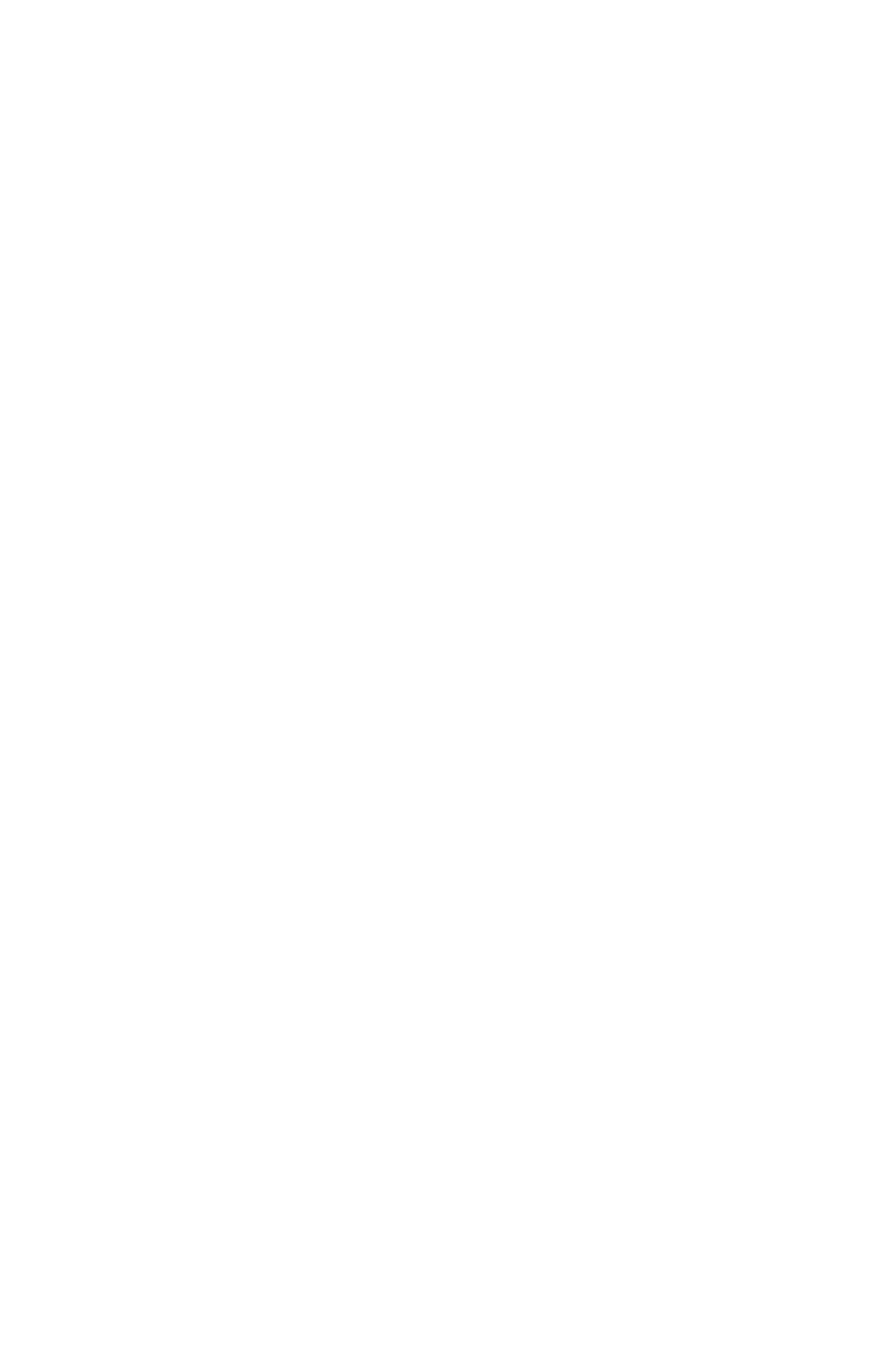С этого момента в столице России, Санкт-Петербурге, думали, что судьба огромной территории в 1500 квадратных километров - будущего Кизеловского угольного бассейна, - а с ней и маленькой Губахи предопределена: быть одним из основных поставщиков угля для государства. Но в божественном расписании уральского города было предусмотрено и иное предназначение – стать городом химиков.
Первое месторождение угля нашли на берегу реки Полуденный Кизел, затем второе - на реке Усьве, третье - в районе горы Крестовой, у Губахинской пристани. Рядом с новыми месторождениями одна за другой открывались шахты. К началу ХХ века их было уже 36, девять из этого числа – в Губахе. К 1917 году Кизеловский угольный бассейн выдавал половину каменного угля Урала, а позже, уже в военные годы, закрепил за собой звание «Уральская кочегарка».
Октябрьская революция изменила не только государственный строй, но и скорректировала направление развития шахтёрского края. Чтобы увеличить добычу угля, так необходимого для восстановления страны после гражданской войны, необходима была механизация труда и электрификация шахт.
По плану ГОЭЛРО в Губахе в начале 20-х годов прошлого столетия началось строительств Кизеловской ГРЭС (территория современной Губахи в то время входила в состав Кизеловского района, отсюда и название). Это была третья электростанция в России и первая грандиозная стройка в Губахе.
Торжественный пуск электростанции состоялся 17 июля 1924 года в лучших традициях того времени: с митингом, революционными песнями и звуком заводского гудка. С этим гудком связана интересная история. По воспоминаниям участника строительства П.М. Ефимова (их использует в книге «Кизел. ГРЭС» историк Лев Перескоков), эту 500-килограмовую махину заказали на Мотовилихинском заводе и установили на здании котельной первой очереди. Он и возвестил о пуске станции да так громко, что звук его оглушил всех присутствующих и оставил соседние со станцией дома без стёкол. После этого гудок решили больше не использовать.
Через несколько лет, в 1933 году, благодаря току новой станции, ещё одно событие вошло в историю не только Губахи, но и страны: появился первый в Советском Союзе электрифицированный участок железной дороги: от Кизела до Чусового стали ходить поезда на электрической тяге.
Взятый молодой страной Советов курс на индустриализацию положил начало второго масштабного строительства. Выяснилось, что кизеловский уголь годится для коксования, и было принято решение о возведении опытно-промышленной коксовой батареи. Её запустили в 1928 году, а в 1929 начали строить Губахинский коксохимический завод.
Первый коксовый «пирог» выдали из печи 5 декабря 1936 года. И заработал завод, задымили трубы, отправляя в небо коксовый газ.
Газ этот усугубил и без того плачевную экологическую обстановку в соседствующих с предприятием посёлках, а мог бы, благодарю содержанию каменноугольной смолы, сырого бензола, стать сырьём для получения нужных для страны продуктов. И учёные это подтвердили своими исследованиями, получив из вылетающего в трубу коксового газа смолу, толуол, бензол... Строительство ещё одного завода стало бы логичным продолжением индустриализации Губахи. И это строительство было запланировано.
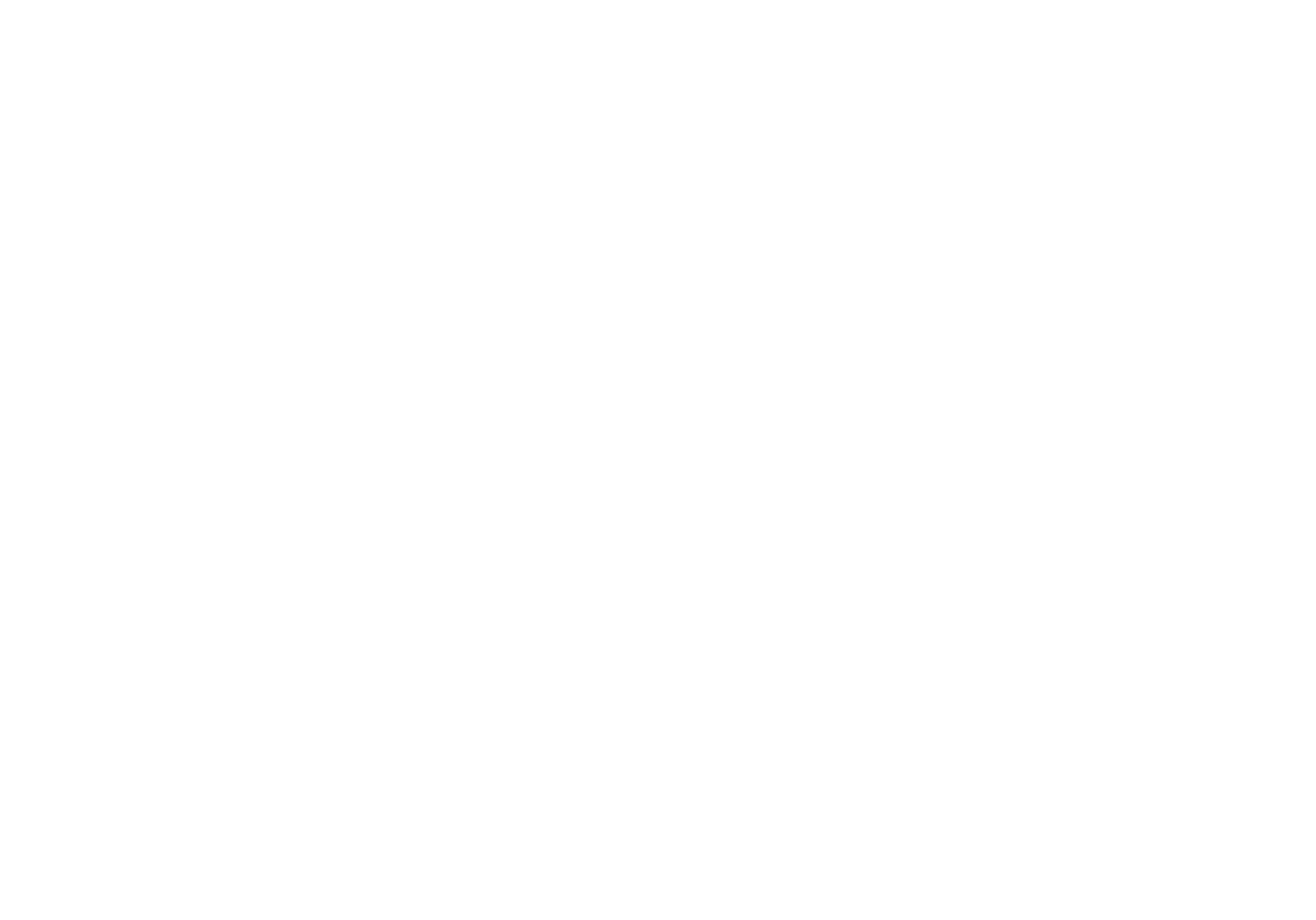
Коррективы в государственный план вновь внесла война. Кизеловский угольный бассейн в годы Великой Отечественной войны стал одной из главных топливных баз, поскольку Донбасс, где добывалась почти половина всего угля в стране, оккупировали фашистские войска.
Шахтёры КУБа не выходили из забоев по 12-13 часов, некоторые сменное задание выполняли на 300 и более процентов. И это далеко не всегда были крепкие мужчины – фронту нужны были солдаты. В военное время создавались женские бригады, да и подросткам находилась работа.
На шахте №2 Капитальная трудился донбасский забойщик Павел Поджаров, сумевший за три года выполнить 12 годовых норм. Своему методу он обучил 115 человек, организовав бригады «поджаровцев». В КУБ по заданию Государственного комитета обороны в 1943 году приезжал и Алексей Стаханов, делился опытом, рассказывая о разделении труда в шахте, о комплексном подходе к добыче чёрного золота. Иначе крепкий кизеловский уголёк было не взять.
На оккупированной советской земле остались не только шахты, но и химические предприятия, продукция которых нужна была государству. До прихода гитлеровских войск спешно вывозилось оборудование химзаводов в Горловке, Сталиногорске и почти готового к пуску нового комбината в Лисичанске. Его принимала Губаха, так как в августе 1941 года Совет Народных Комиссаров Союза ССР решил строить здесь азотно-туковый завод.
Позже это постановление дополнило новое, подписанное председателем Совета Народных Комиссаров СССР Иосифом Сталиным. В документе под номером 324 от 11 января 1942 года утверждалась мощность будущего предприятия.
На площадке в двух километрах от коксохима должны были появиться цеха синтеза аммиака, слабой и крепкой азотной кислоты, крепкой серной кислоты, а ещё цех аммиачной селитры, который должен был работать во время остановок цехов крепкой серной и крепкой азотной кислот.
Первую продукцию губахинского завода пока на привозном аммиаке ждали уже 1 октября 1942 года. Вторая очередь в составе цеха синтеза аммиака войти в эксплуатацию должна была к 1 января 1943 года.
Строители в Губахе, как и шахтёры, трудились самоотверженно и цель у них была общая – ради Победы.
Вот только губахинскому азотно-туковому заводу так и не суждено было появиться. В Великой Отечественной войне произошел перелом: до победного парада было ещё далеко, но первые населённые пункты советские войска стали отвоёвывать у врага. В освобождённые заводы возвращались из эвакуации люди и оборудование. Строительство замерло. Тем, кто ещё остался на губахинской площадке, дали новое задание: вместо возведения заводских корпусов расчищать место под жилые дома. Это стало началом рождения посёлка Северного.
Геннадий Иванович
С 1929 по 1960 г. работал на предприятиях химической промышленности, в том числе директором Кемеровского, Горловского, Губахинского химических предприятий, Лисичанского химического комбината (сейчас — Северодонецкое государственное производственное предприятие «Объединение Азот»). В 60-х годах работал заместителем председателя Украинского Совета
народного хозяйства, министром химической промышленности Украины.
В годы Великой Отечественной войны Г. И. Вилесов работал директором Губахинского химического завода (1942–1943 годы). Под его руководством было принято и сохранено эвакуированное оборудование Горловского азотно-тукового завода (ныне ОАО «Концерн Стирол» г. Горловка).
Геннадий Иванович
С 1929 по 1960 г. работал на предприятиях химической промышленности, в том числе директором Кемеровского, Горловского, Губахинского химических предприятий, Лисичанского химического комбината (сейчас — Северодонецкое государственное производственное предприятие «Объединение Азот»). В 60-х годах работал заместителем председателя Украинского Совета
народного хозяйства, министром химической промышленности Украины.
В годы Великой Отечественной войны Г. И. Вилесов работал директором Губахинского химического завода (1942–1943 годы). Под его руководством было принято и сохранено эвакуированное оборудование Горловского азотно-тукового завода (ныне ОАО «Концерн Стирол» г. Горловка).
Салют Победы отгремел. Советский народ взялся за выполнение новой задачи – восстановление разрушенной страны. В правительстве решили вернуться к строительству химического завода в Губахе. Правда, с корректировкой: из азотно-тукового предприятие стало химическим. Изменение профиля утвердили приказом № 246, датированным 6 сентября 1945 года.
Вновь, как в начале 40-х, в Губаху потянулись эшелоны. Более тысячи вагонов из Европы шли в уральскую глубинку. Теперь на Страну Советов должно было работать оборудование с заводов побеждённой Германии.
Для будущего Губахинского химического завода сложилось всё как нельзя лучше. Во-первых, в списке предприятий, отходивших по репарации СССР был метанол-толуольный завод крупного химического концерна «И.Г. Фарбениндустри», во-вторых, в группу специалистов, изучающих доставшиеся стране предприятия, были люди, причастные к строительству азотно-тукового губахинского завода. Это супруги Барские, Г.М. Курт и Г.И. Вилесов. Проект будущего химического завода делала Эмма Барская: из немецкого оборудования предстояло создать производство толуола и метанола мощностью 50 тысяч тонн в год.
Встречал репарационное оборудование и руководил возобновлением стройки в Губахе директор химзавода Абрам Лифшиц.
Абрам Эммануилович
В 1925 году поступил в Харьковский технологичский институт на химический факультет, окончив который, работал на разных инженерно-технических должностях заводов Харькова и Донбасса. За время работы на Сталинском АТЗ неоднократно поощрялся премиями, а в 1935 году Приказом Наркома тяжелой промышленности Г.К. Орджоникидзе награжден легковым автомобилем за большой вклад в интенсификацию производства, рационализацию и успешное руководство.
В 1938 году назначен главным инженером на Березниковский химический комбинат, одну из крупнейших строек 1-й пятилетки, затем техническим директором этого предприятия, а в 1939 году переведен в распоряжение НКХП (Народный комиссариат химической промышленности), где работал сначала директором опытной станции Главазота, затем главным инженером Главазота.
В феврале 1942 г. приказом по НКХП назначен директором БАТЗ, в октябре 1942 г. – главным инженером БАТЗ, а в октябре 1945 года назначен директором Губахинского химического завода. За успешный монтаж эвакуированного оборудования и увеличение выпуска продукции оборонного значения в марте 1943 года, в числе других работников БАТЗ, А.Э. Лифшиц награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Абрам Эммануилович
В 1925 году поступил в Харьковский технологичский институт на химический факультет, окончив который, работал на разных инженерно-технических должностях заводов Харькова и Донбасса. За время работы на Сталинском АТЗ неоднократно поощрялся премиями, а в 1935 году Приказом Наркома тяжелой промышленности Г.К. Орджоникидзе награжден легковым автомобилем за большой вклад в интенсификацию производства, рационализацию и успешное руководство.
В 1938 году назначен главным инженером на Березниковский химический комбинат, одну из крупнейших строек 1-й пятилетки, затем техническим директором этого предприятия, а в 1939 году переведен в распоряжение НКХП (Народный комиссариат химической промышленности), где работал сначала директором опытной станции Главазота, затем главным инженером Главазота.
В феврале 1942 г. приказом по НКХП назначен директором БАТЗ, в октябре 1942 г. – главным инженером БАТЗ, а в октябре 1945 года назначен директором Губахинского химического завода. За успешный монтаж эвакуированного оборудования и увеличение выпуска продукции оборонного значения в марте 1943 года, в числе других работников БАТЗ, А.Э. Лифшиц награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Слово «оборудование» рисует в воображении упакованные в ящики механизмы. Выгруженные же вдоль железнодорожных путей и на площадках рядом со строящимся заводом агрегаты из Германии больше напоминали груду хаотично сваленного металла. Изучали немецкий, разбирались что к чему, доукомплектовывали, восполняя потерянное в пути, ремонтировали сломанное, а затем собирали.
К началу 1949 года директором Андреем Маслобойщиковым (товарища Лившица перевели в Москву) была выстроена структура предприятия и сформирован штат, налажен учёт и составлена номенклатура хранящегося на площадках оборудования. Коллектив завода состоял из 159 рабочих, в заводоуправлении трудились 39 человек, инженерно-технических работников было 11.
Андрей Сергеевич
Прибыл в Губаху в декабре 1946 г. Ему предстояло возобновить строительство складов и наладить систему учета оборудования особых поставок.
Андрей Сергеевич
Прибыл в Губаху в декабре 1946 г. Ему предстояло возобновить строительство складов и наладить систему учета оборудования особых поставок.
На смену А. Маслобойщикову (как и предшественник, он пошел на повышение - Губахинский химзавод для многих стал стартовой площадкой) назначили Виктора Ермакова. При нём существовала железная дисциплина, всё было посчитано, проанализировано, пронумеровано. Табельные номера получили все сотрудники завода.
Виктор Васильевич
на экономический факультет.
В 1930 году после окончания университета по распределению комиссии ЦК был направлен в г. Березники на химический комбинат (БХК). Работал в 1938-39 г.г. начальником отдела труда. 20 сентября 1940 года химический комбинат разделился на два завода: азотнотуковый и содовый. Директором содового завода назначен В.В. Ермаков.
В ноябре-декабре 1942 года В.В. Ермакова мобилизовали на фронт. В.В. Ермаков прошёл славный боевой путь, был дважды ранен. Войну он закончил в Берлине. По май 1948 года Виктор Васильевич был в системе оккупационных войск в Германии. После демобилизации был на руководящей работе в Алма-Ате – заместителем уполномоченного Госплана СССР по Казахской ССР.
В 1949 году направлен на Губахинский химический завод.
Виктор Васильевич
на экономический факультет.
В 1930 году после окончания университета по распределению комиссии ЦК был направлен в г. Березники на химический комбинат (БХК). Работал в 1938-39 г.г. начальником отдела труда. 20 сентября 1940 года химический комбинат разделился на два завода: азотнотуковый и содовый. Директором содового завода назначен В.В. Ермаков.
В ноябре-декабре 1942 года В.В. Ермакова мобилизовали на фронт. В.В. Ермаков прошёл славный боевой путь, был дважды ранен. Войну он закончил в Берлине. По май 1948 года Виктор Васильевич был в системе оккупационных войск в Германии. После демобилизации был на руководящей работе в Алма-Ате – заместителем уполномоченного Госплана СССР по Казахской ССР.
В 1949 году направлен на Губахинский химический завод.
В активную фазу строительство вошло в 1951 году, когда Министерством химической промышленности СССР было принято решение о запуске на Губахинском химическом заводе опытной установки по производству толуола. Решение-то приняли, а вот в срок реализовать его не получилось.
Начальником опытной установки был назначен М.Н. Бакин, а начальником лаборатории Н. Бодров. Комплектация штата на установку началась в 1952 году с приездом молодых специалистов и техников из Перми, Томска и других городов. Из Перми приехали Н. Плюснин, И.П. Шубенцова, Н. Житникова и я. И назначены были старшими сменными химиками.
В эксплуатацию опытная установка по производству толуола была запущена.
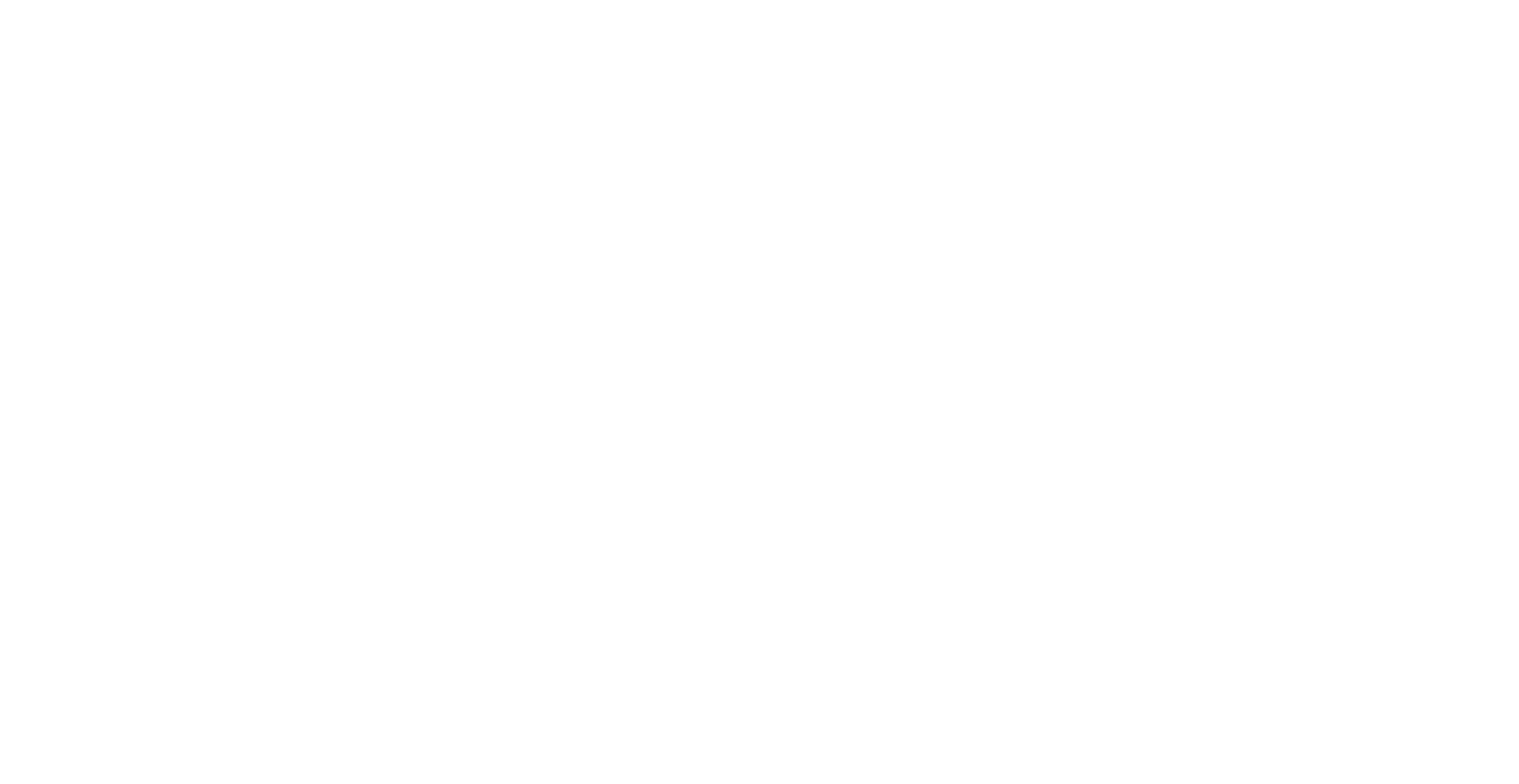
Следующим шагом стала сдача в эксплуатацию первой очереди строящегося Губахинского химического завода: получение первой продукции установки толуола.
Это ответственное дело директор завода не побоялся поручить пусковой группе, состоящей из молодых специалистов. В неё вошли Пачгин, Ермаков и Кисляков.
Приказ из Москвы №555, подписанный заместителем министра химической промышленности А. Миловановым, подтвердил рождение Губахинского химического завода.
Так исторически сложилось, что место для жизни люди выбирали недалеко от своей работы. В КУБе рядом с шахтами вырастали одноимённые посёлки горняков. Посёлок химиков, что вполне логично, появился всего в километре с небольшим от химзавода.
Прибывающим на новое производство специалистам, строителям нужно было где-то жить. И жильё строилось ускоренным темпом. Всего за два года параллельно с возведением заводских цехов в посёлке Северном появилось три улицы сначала со шлакоблочными домами, а через несколько лет с первыми кирпичными многоэтажками.
Что интересно, «колыбелью» для одной из первых заводских династий тоже стал Северный. Вера Никаноровна Прусовская стала родоначальницей большой династии – судьба четырёх поколений связана с жизнью химического предприятия.
Хоть и родилась основательница не в Губахе, а в селе Тоцком, под Оренбургом, в 1928 году, но всю сознательную жизнь провела здесь и здравствует до сих пор.
Установка толуола исправно выдавала продукцию и была рентабельна, но продолжалось это недолго. В 1957 году из-за низкого спроса на толуол и высокой себестоимости, а, следовательно, убыточности, производство его было закрыто. Цех был перепрофилирован под выпуск силикагеля.
Завод снова стал экспериментальной площадкой. Теперь для производства метанола по передовому для того времени методу – из коксового газа.
В связи с большой сложностью технологической схемы, разнообразием технологических установок, находящихся в единой технологической цепочке, пустить полностью производство и выдать первые тонны готовой продукции удалось только в ноябре 1959 года. О сложности схемы говорит наличие цехов: два цеха сероочистки с пятью установками по своим технологиям, цех конверсии с установкой сероочистки и непосредственно конверсия метана, цех компрессии на 320 атмосфер, цех разделения воздуха с двумя типами блоков разделения воздуха, цех синтеза метанола с установкой трёх колонн синтеза под давлением 320 атмосфер, цех ректификации с большим подземным хранилищем. Подобных схем в Союзе не было. Это была передовая технология для того времени, впервые в Советском Союзе отработанная у нас в Губахе.
Исаак Маркович
После его окончания он получает специальность инженера химика-технолога. И.М. Розенфельд работал мастером химического цеха на химкомбинате города Сталиногорска, затем начальником цеха электрохимкомбината в Чирчике, начальником цеха азотно-тукового завода в Кемерово.
В 1948 году он стал лауреатом Государственной премии СССР.
В 1955 году он был назначен директором Губахинского химического завода.
Исаак Маркович
После его окончания он получает специальность инженера химика-технолога. И.М. Розенфельд работал мастером химического цеха на химкомбинате города Сталиногорска, затем начальником цеха электрохимкомбината в Чирчике, начальником цеха азотно-тукового завода в Кемерово.
В 1948 году он стал лауреатом Государственной премии СССР.
В 1955 году он был назначен директором Губахинского химического завода.
После выпуска товарного метанола-ректификата пытливый ум сотрудников предприятия (а штат химического завода тогда уже состоял из 500 с лишним человек) не успокоился. Одних только рационализаторских предложений внедрили более трёхсот. В итоге на предприятии создали центральную лабораторию для проведения научной и исследовательской работы. Её открыли в 1961 году.
В этот же год взялись за строительство очистных сооружений мощностью почти 12 тысяч кубических метров в сутки. По проекту сточные промышленные воды должны были очищаться механическим и биологическим способом. В 1964 году комплекс районных очистных сооружений (он принимал и стоки Новой Губахи) был готов к эксплуатации.
Николай Иванович
В 1938 году закончил Днепропетровский химико-технологический институт по специальности «технология пирогенных процессов». На Губахинский химзавод был принят по переводу 7 декабря 1961 года из Перми, где работал начальником областного управления Росглаввтормета.
Николай Иванович
В 1938 году закончил Днепропетровский химико-технологический институт по специальности «технология пирогенных процессов». На Губахинский химзавод был принят по переводу 7 декабря 1961 года из Перми, где работал начальником областного управления Росглаввтормета.
Новый 1965 год на Губахинском химическом завод встретили достойно- было пущено в строй производство метиламинов. Один из продуктов – триметиламин – входил в состав жидкого ракетного топлива и был необходим стране, которая имела большие амбиции в освоении космоса. Так что объект 858 имел оборонное значение. Первую партию губахинские химики получили уже в июне.
Так хорошо начавшись, 65-й преподнёс и не очень приятный «сюрприз» - остановку агрегата синтеза метанола.
Писались заказы на поставку труб, но они не выполнялись. В мае 1965 года инспекцией Госгортехнадзора был остановлен 3-й агрегат синтеза метанола из-за коррозии труб конденсатора, два агрегата имели чуть лучшее состояние. Остановка колонны сразу вывела 30 % мощности. Я с главным механиком был вызван срочно к председателю Всероссийского совнархоза. Чтобы не терять время, он принял решение снять конденсаторы с фундамента строящегося цеха аммиака в Новгороде. Директора завода К.В. Коновалова обязали в течение трёх дней демонтировать и отгрузить конденсаторы в Губаху.
Трубы доставили. Коллектив работал сутками, конденсатор восстановили. Остановка агрегата ещё раз доказала уязвимость монозаводов и ускорила процесс разработки и строительства высокорентабельных производств. Тем более производство метанола достигло своего предела в 50 тысяч тонн, цены на этот продукт снизились, и завод стал нести убытки.
Пути выхода из сложившейся ситуации предложил директор завода Виктор Пачгин.
Виктор Иванович
Он родился в 1928 году в Березниках. В 1946 году окончил Березниковский химический техникум по специальности «механик». Работал помощником начальника цеха Березниковского азотно-тукового завода, окончил Пермский государственный университет. В Губаху приехал в 1952 году.
Работал в должности инженера-химика на опытной установке корпуса № 117. Прошел все ступени рабочей лестницы, вырос до начальника цеха. В 1962 году Виктор Иванович Пачгин стал главным инженером Губахинского химического завода, а в 1964-м – его директором.
В Губахе Виктор Иванович проработал до 1974 года, когда был назначен директором вновь строящегося Россошанского химического завода, руководил вводом в эксплуатацию важнейших производственных мощностей по производству минеральных удобрений. Звание «Почетный гражданин города Россоши» присвоено в 1998 году.
В.И. Пачгин был награжден орденом Октябрьской революции, отмечен званием «Отличник химической промышленности», почетными грамотами Минхимпрома СССР.
Виктор Иванович
Он родился в 1928 году в Березниках. В 1946 году окончил Березниковский химический техникум по специальности «механик». Работал помощником начальника цеха Березниковского азотно-тукового завода, окончил Пермский государственный университет. В Губаху приехал в 1952 году.
Работал в должности инженера-химика на опытной установке корпуса № 117. Прошел все ступени рабочей лестницы, вырос до начальника цеха. В 1962 году Виктор Иванович Пачгин стал главным инженером Губахинского химического завода, а в 1964-м – его директором.
В Губахе Виктор Иванович проработал до 1974 года, когда был назначен директором вновь строящегося Россошанского химического завода, руководил вводом в эксплуатацию важнейших производственных мощностей по производству минеральных удобрений. Звание «Почетный гражданин города Россоши» присвоено в 1998 году.
В.И. Пачгин был награжден орденом Октябрьской революции, отмечен званием «Отличник химической промышленности», почетными грамотами Минхимпрома СССР.
Второе – это строительство новых высокорентабельных производств. Надеждами в этом вопросе мы себя не тешили, так как в области началось колоссальное строительство в Березниках и Перми, и все строительные тресты были сосредоточены там, а трест № 2 Кизелшахтостроя был занят на строительстве шахт, вошедших в число строек пятилетнего плана 1965-1970 годов. Но, несмотря на это, дирекция завода неоднократно выходила с предложением о расширении завода за счет строительства нового, более мощного производства метанола с переработкой его в производные: формалин, смолы, и только после пребывания на заводе Костандова мы получили подтверждение, что в план строительства следующей пятилетки будут включены новые производства.
Новые производства вводить в строй нужно было как можно быстрее. И сделать это было возможно при условии, что проектирование, возведение, изготовление и монтаж оборудования будет производиться службами завода.
Разработку проектов поручили конструкторскому бюро под руководством Григория Гершонка. Деньги на новые производства выделялись из фонда развития предприятия (по косыгинской реформе 1967 года руководители предприятий могли за счёт прибыли создать три фонда: развития, соцкультбыта и жилищного строительства, а также материального поощрения).
Первые результаты такого подхода не заставили себя ждать.
Самым первым из крупных проектов, реализуемых силами завода, стало производство формалина. Его разместили в пустующем здании бывшего цеха синтеза толуола.
Напротив основного корпуса оборудовали отделение приготовления катализатора. Первые годы пемзу для катализатора в цехе дробили вручную, часто привлекая в помощь работников из других цехов.
Не всегда всё получалось гладко и с первого раза. Григорий Гершонок вспомнил один случай, когда при проектирование первого агрегата специалисты предложили упростить конструкцию тарелок абсорбционной колонны. С ними согласились, в РМЦ изготовили колонну, и она выдала вместо 37-процентного формалина воду с малым содержанием продукта, основная масса формальдегида вылетала через свечу над цехом, отравляя воздух и вызывая головную боль. Агрегат демонтировали, проект разработали заново, колонну собрали и агрегат мощностью в 25 тысяч тонн продукта в год удачно запустили в работу. Это произошло в 1968 году.
За первым агрегатом последовал второй, третий, четвёртый... В 1981-1984 годах была проведена реконструкция агрегатов и тогда достигли выпуска 240 тысяч тонн в год.
Новое десятилетие коллектив химзавода начал с создания с первой в Союзе промышленной установки по производству капролона мощностью 500 тонн в год.
Москову нужен был человек, который смог бы разобраться с документацией, запустить процесс. Всё получилось. Хотели даже сделать производство не периодическим, а непрерывным – сделать машины центробежного формования для изготовления втулок разного диаметра. Капролон пользовался большим спросом, мы делали втулки, у нас даже оборонзаказ был.
Позднее, уже 1985-1986 годах, наладили производство графитонаполненного капролона. Он превосходил обычный капролон своими антифрикционными свойствами. Поршневые кольца, изготовленные из него, применяли в компрессорах высокого давления при производстве аммиака и метанола на всех предприятиях «Союзазота». Параллельно вёлся монтаж установки по вторичной переработке отходов полиамида с получением гранулята. Со временем качество становилось лучше, объёмы больше, а география губахинского капролона шире. С заводом долгосрочные контракты на поставку блочного полиамида ПА-6 заключила Чехословакия.
Поистине революционным для завода стал 1971 год: в августе производство метанола перевели на природный газ.
Стремление оптимизировать процесс производства, делать его безотходным, тем самым внося вклад и в сохранение природного благополучия, привели к новому инновационному решению – из углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу, получать жидкую углекислоту. Производство заработало в 1972 году.
В 1973 году получили первую продукцию на производстве карбамидоформальдегидных смол.
Параллельно с вводом в строй действующих производств велось планирование новых.
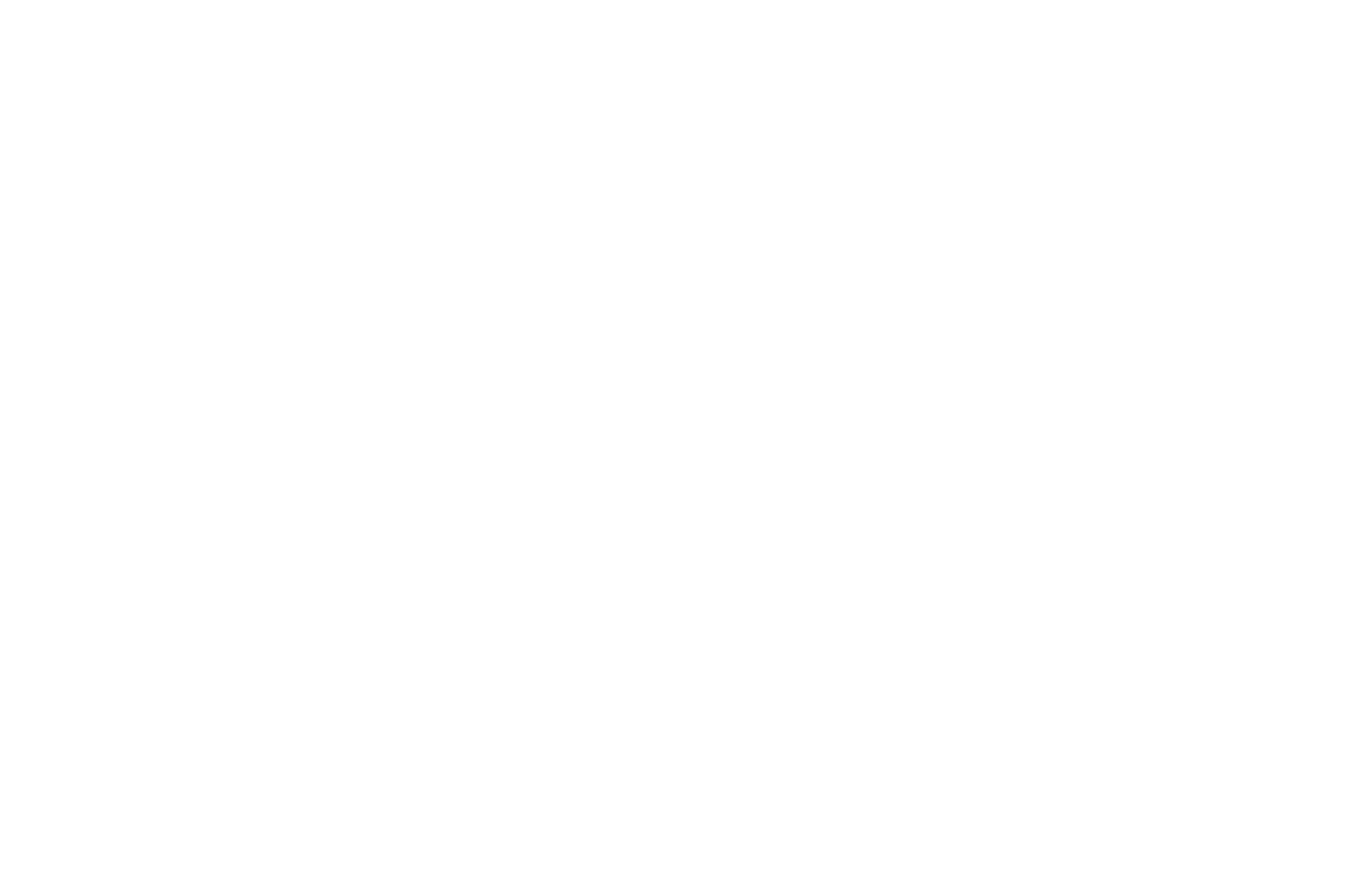
Сколько нужно времени, чтобы довести выпускаемый продукт до совершенства? Ответ вряд ли будет однозначным. В идеале – сразу после пуска производства, но, бывает, что для этого требуются годы. А если ты в этом ещё и первопроходец? На губахинском предприятии дорогу первых выбирали в силу разных обстоятельств регулярно. Получение пентаэритрита как раз было таким опытным путём первых.
Специалистов, чтобы спросить у кого-то, в Союзе тогда не было. Зарубежные секретами не делились. Немного подсказали, как улучшить качество, только в Чехословакии. Так что развивались сами, опытным путём шли. Решили использовать щелочной способ, и процесс пошёл. От первоначального проекта, который был, осталось только три реактора и ещё пара аппаратов, сам процесс получения продукта изменили полностью. Качества согласно ГОСТу добились лишь через несколько лет.
Именно с цеха пентаэритрита началась «строительная» жизнь Владимира Даута. Завершать начатое в 1974 году ему (тогда руководителю производственно-технического отдела) поручил директор завода Владимир Махлай.
Сложности добавляло и то, что приборы КИП хоть и были, но в таких средах они не работали, уровень в реакторе мерили рейкой. Не все стадии процесса были отработаны: отсутствовала стадия ректификации, не доведён до ума узел переработки технических маточников.
Так после множества проб и ошибок процесс постепенно стал налаживаться..
Это были, конечно, не ракеты, а оборудование для строительства в Губахе нового комплекса производства метанола. Доставка химических реакторов синтеза метанола с завода–изготовителя в Шеффилде оказалась задачей со звёздочкой. Сначала реакторы, каждый из которых весил 208 тонн, на теплоходе «Стахановец Котов» доставили из Англии в Ленинград. Сухогруз «Волго-Дон» принял эстафету и пришёл с грузом к построенному именно для приёма этого оборудования причалу на Каме, около деревни Лысь. До Губахи ценный груз везли тягачи МАЗ-543 «Ураган» и Faun Горь – медленно (средняя скорость была всего 2 километра в час), осторожно двигались они по 100-километровоу зимнику, проложенному по тайге. За февраль специалисты Горьковского автопредприятия «Спецтяжавтотранс» доставили до заводской стройплощадки девять единиц крупногабаритного тяжёлого оборудования.
Вторая половина 70-х годов прошлого века стала очередным поворотным этапом и в судьбе химического завода, и в судьбе города: в мае 1977 года с английской компанией «Devy Power Gas» руководство Советского Союза заключило контракт на поставку оборудования и строительство двух заводов по производству метанола. Установки мощностью по 750 тысяч тонн метанола в год (по тем временам крупнейшие в мире) решено было возводить в Губахе и Томске. Все этапы строительства М-750 на губахинской площадке очень подробно описал Владимир Осипчук в документальной хронике «Три жизни одного завода». О событиях того времени писала Нина Бойко в книге «Губахинский химический завод» и Светлана Федотова в «Ветре времени». И всё же нельзя не сказать о важных моментах масштабной стройки, определившей будущее губахинцев да и всего КУБа в целом.
Действительно, Владимир Махлай, ещё за несколько лет до подписания контракта с английской компанией не раз обращался и в обком партии, и в Министерство химической промышленности с предложением о строительстве в Губахе производства метанола мощностью 300 тысяч тонн в год. Контракт с «Devy Power Gas» вселил надежду и дал силы добиваться размещения М-750 на ГХЗ. Больше времени директор проводил в Москве, а не в Губахе, доказывая в кабинетах руководителей разных уровней, что строить нужно на Урале, ведь в городе уже работает на природном газе производство метанола, есть опытные сотрудники, водой для новой установки обеспечит Широковское водохранилище, электричеством – «Пермэнерго».
Владимир Николаевич
С января по сентябрь 1961 года работал помощником машиниста Губахинского химического завода.
В 1961 г. – студент химико- технологического факультета Пермского политехнического института.
С 1966 по 1973 год трудился на Губахинском химзаводе слесарем, мастером, механиком, заместителем начальника цеха, начальником цеха компрессии, начальником цеха разделения воздуха.
С 1973 по 1974 год Владимир Николаевич – заместитель директора по капитальному строительству Губахинского химзавода.
В 1974 году он возглавил Губахинский химический завод и за 11 лет сделал его одним из ведущих предприятий отрасли.
В апреле 1985 года Владимир Николаевич Махлай был назначен Генеральным директором производственного объединения «Тольяттиазот».
В.Н. Махлай - доктор технических наук, почетный гражданин двух городов – Губаха и Тольятти.
Владимир Николаевич
С января по сентябрь 1961 года работал помощником машиниста Губахинского химического завода.
В 1961 г. – студент химико- технологического факультета Пермского политехнического института.
С 1966 по 1973 год трудился на Губахинском химзаводе слесарем, мастером, механиком, заместителем начальника цеха, начальником цеха компрессии, начальником цеха разделения воздуха.
С 1973 по 1974 год Владимир Николаевич – заместитель директора по капитальному строительству Губахинского химзавода.
В 1974 году он возглавил Губахинский химический завод и за 11 лет сделал его одним из ведущих предприятий отрасли.
В апреле 1985 года Владимир Николаевич Махлай был назначен Генеральным директором производственного объединения «Тольяттиазот».
В.Н. Махлай - доктор технических наук, почетный гражданин двух городов – Губаха и Тольятти.
В итоге предложение настойчивого руководителя, до сердечного приступа доказывающего плюсы строительства в Губахе, сначала поддержал первый секретарь Пермского обкома КПСС Борис Коноплёв, затем первый замминистра химической промышленности СССР Владимир Коваль. К группе поддержки подключился и заместитель начальника отдела химии Госплана Илья Барский. Он в 40-е годы хоть и был в Губахе недолго, но даже за небольшой срок понял, на что способны губахинские строители и химики. Решение приняли в пользу Губахи.
В феврале 1979 года строительство на площадке будущего производства метанола началось. Трудности, конечно, были. С ними одними из первых столкнулись специалисты отделов комплектации и капитального строительства. В день в Губаху могло прийти до сотни вагонов с оборудованием, их разгружали многотонными кранами и временно размещали на подготовленных для этого площадках. Открытый и закрытые склады, цех сборки предстояло ещё построить.
В командировки часто ездили – в месяц не по разу, по всей стране. Система бюджетирования была тогда такая: если что-то нужно купить, то всё делалось через министерство, Союзглавкомплект, причём «выбивать» приходилось, добиваться... То в Москву за фондами, то на предприятие, где задержался наш товар. И всё же надо было срочно. А в то время сложности были и с билетами, и с гостиницами (бывало, что и на вокзалах ночевали). Если в Москву приезжали, вечером и по магазинам успевали походить, и в театры, на концерты (прямо с авоськами).
Но мы были молодые, у нас в отделе самому старшему было 40 лет. В отделе нас было пять женщин - Вера Фёдоровна Пономарёва, Вера Константиновна Шайхразиева, Нина Андреевна Фофанова, Валентина Антоновна Шилова и я - мы вместе проработали более 25 лет, кроме нас столько лет в отделе оборудования никто не проработал, хотя это, наверное, не женская работа.
Вот только работу на мужскую и женскую никто тогда не делил. На строительстве «Метанола-750», получившего статус главного строительного объекта Пермской области, были задействованы 20 союзных министерств и ведомств, 37 строительных трестов и около 5 тысяч рабочих, включая солдат-срочников военно-строительного отряда (или как в народе говорили, стройбата) и условно-досрочно освобожденных («химиков»).
Большинство имевших непосредственное отношение к строительству метанола не вспоминали не то что про отпуск, но и про нормированный рабочий день.
Не только к подчинённым был требователен Владимир Махлай, но и сам работал на износ. А ещё не любил людей некомпетентных, потому, пока не разберётся во всём и не поймёт, что к чему, не успокаивался. Инструкции, описания к оборудованию приходили на английском, вникнуть в чертежи и документы помогали заводские переводчики Надежда Ковалюк, Алевтина Ческидова.
К сентябрю 1982 года на площадке в 20 гектаров начал вырисовываться теперь уже узнаваемый всеми облик производства метанола с его колоннами ректификации и 65-метровым факелом. Одна за другой реализовывались программы «Большой ток», «Большая вода», «Деминерализованная вода», «Воздух», «Газ», «Тепло», «Пар 100». Каждый этап, даже небольшое движение вперёд освещались репортёрами корреспондентского пункта областной газеты «Звезда», на время строительства прописавшимися в Губахе.
Параллельно с процессом строительства обучение и стажировку проходил персонал производства метанола в Англии, Томске, в учебном центре в Северодонецке (в 1983 году на ГХЗ создали уже свой учебный центр).
Строительство на территории химзавода велось и помимо производства метанола.
22 сентября 1984 года случилось событие, к которому шли пятилетку: в смену Сергея Коновалова в 10.07 был получен первый метанол-сырец. Забилось сердце завода!
Через два дня, 24 сентября 1984 года, смена Наиля Зарипова получила метанол-ректификат необходимого качества.
Государственный акт о сдаче в эксплуатацию «Метанола-750» был подписан 22 декабря 1984 года.
Посёлок Северный преобразился вместе с химическим заводом, расстроился Новый город. При должном финансировании перемены происходили быстро.
Согласно документам, с учётом выплат за кредит сметная стоимость проекта «Метанол-750» составила 274 910,10 тысячи рублей, из этих денег на жилищное и гражданское строительство выделялось 3506,85 тысячи рублей.
Методом народной стройки была построена база отдыха на Широковском водохранилище, приобретены катера, изготовлены на заводе лодки из стеклопластика. Привезли малый рыболовецкий сейнер из Эстонии. С помощью обкома КПСС нам удалось получить разрешение Госплана СССР на строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном, в котором все отделочные работы были выполнены силами коллективов цехов.
В посёлке химиков построили новые дома, детские садики, новую школу, а в прежнем школьном здании открыли филиал Пермского политехнического института. Для летнего отдыха детей заводчан на берегу Косьвы расположился пионерский лагерь.
Новая Губаха тоже похорошела. В то время председателем горисполкома был Вениамин Хмелёв, а за капитальное строительство отвечал Геннадий Мишустин. Все пожелания руководства города по социальному развитию территории были учтены.
Параллельно со строительством М-750 и в последующее десятилетие в Новом городе вырос жилой микрорайон, построили поликлинику, новое здание училища №13, общежитие, общеобразовательную и музыкальную школы, узел связи. Даже Hotel появился в Губахе. Он разместился в двух подъездах дома на проспекте Октябрьском, прозванного в народе «китайской стеной». Жили там англичане из фирмы Davy Powergas, которые обеспечивали шеф-монтаж основного оборудования.
Помимо возведения жилых домов и зданий, велось строительство инженерной и транспортной инфраструктуры. Недалеко от города построили станцию «Губаха-пассажирская». С тех пор гостей встречал не загазованный индустриальный нижнегубахинский пейзаж, а живописные склоны и пушистые ели.
Но главное - появилась связующая артерия – мост-путепровод через реку Косьву и железнодорожные пути. Его называли «виадуком». И он значительно облегчил путь от химзавода до Новой Губахи, сделал его короче и удобнее, навсегда соединив два берега, город и завод.