
С этого момента в столице России, Санкт-Петербурге, думали, что судьба огромной территории в 1500 квадратных километров - будущего Кизеловского угольного бассейна, - а с ней и маленькой Губахи предопределена: быть одним из основных поставщиков угля для государства. Но в божественном расписании уральского города было предусмотрено и иное предназначение – стать городом химиков.
Первое месторождение угля нашли на берегу реки Полуденный Кизел, затем второе - на реке Усьве, третье - в районе горы Крестовой, у Губахинской пристани. Рядом с новыми месторождениями одна за другой открывались шахты. К началу ХХ века их было уже 36, девять из этого числа – в Губахе. К 1917 году Кизеловский угольный бассейн выдавал половину каменного угля Урала, а позже, уже в военные годы, закрепил за собой звание «Уральская кочегарка».
Октябрьская революция изменила не только государственный строй, но и скорректировала направление развития шахтёрского края. Чтобы увеличить добычу угля, так необходимого для восстановления страны после гражданской войны, необходима была механизация труда и электрификация шахт.
По плану ГОЭЛРО в Губахе в начале 20-х годов прошлого столетия началось строительств Кизеловской ГРЭС (территория современной Губахи в то время входила в состав Кизеловского района, отсюда и название). Это была третья электростанция в России и первая грандиозная стройка в Губахе.
Торжественный пуск электростанции состоялся 17 июля 1924 года в лучших традициях того времени: с митингом, революционными песнями и звуком заводского гудка. С этим гудком связана интересная история. По воспоминаниям участника строительства П.М. Ефимова (их использует в книге «Кизел. ГРЭС» историк Лев Перескоков), эту 500-килограмовую махину заказали на Мотовилихинском заводе и установили на здании котельной первой очереди. Он и возвестил о пуске станции да так громко, что звук его оглушил всех присутствующих и оставил соседние со станцией дома без стёкол. После этого гудок решили больше не использовать.
Через несколько лет, в 1933 году, благодаря току новой станции, ещё одно событие вошло в историю не только Губахи, но и страны: появился первый в Советском Союзе электрифицированный участок железной дороги: от Кизела до Чусового стали ходить поезда на электрической тяге.
Взятый молодой страной Советов курс на индустриализацию положил начало второго масштабного строительства. Выяснилось, что кизеловский уголь годится для коксования, и было принято решение о возведении опытно-промышленной коксовой батареи. Её запустили в 1928 году, а в 1929 начали строить Губахинский коксохимический завод.
Первый коксовый «пирог» выдали из печи 5 декабря 1936 года. И заработал завод, задымили трубы, отправляя в небо коксовый газ.
Газ этот усугубил и без того плачевную экологическую обстановку в соседствующих с предприятием посёлках, а мог бы, благодарю содержанию каменноугольной смолы, сырого бензола, стать сырьём для получения нужных для страны продуктов. И учёные это подтвердили своими исследованиями, получив из вылетающего в трубу коксового газа смолу, толуол, бензол... Строительство ещё одного завода стало бы логичным продолжением индустриализации Губахи. И это строительство было запланировано.
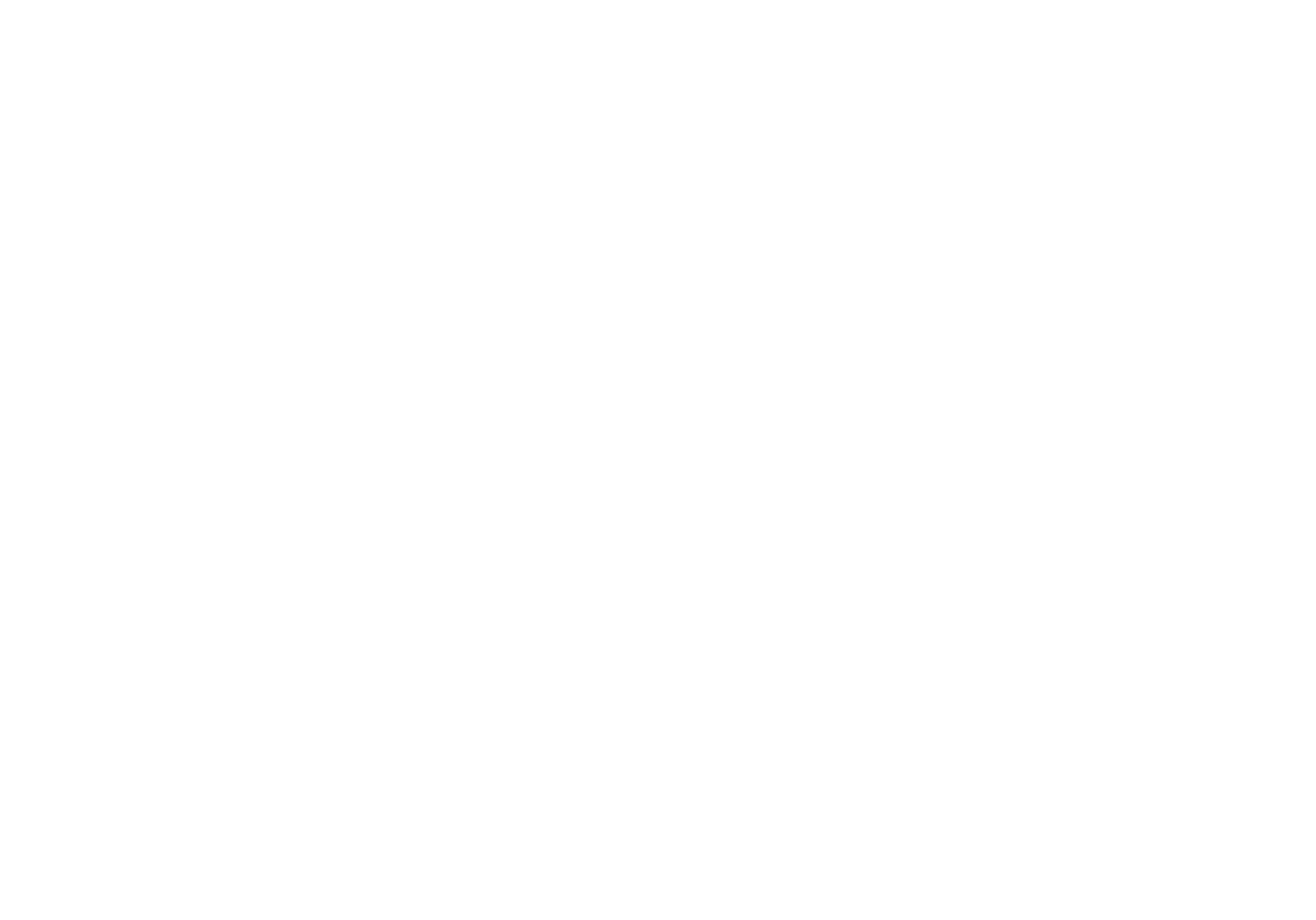
Коррективы в государственный план вновь внесла война. Кизеловский угольный бассейн в годы Великой Отечественной войны стал одной из главных топливных баз, поскольку Донбасс, где добывалась почти половина всего угля в стране, оккупировали фашистские войска.
Шахтёры КУБа не выходили из забоев по 12-13 часов, некоторые сменное задание выполняли на 300 и более процентов. И это далеко не всегда были крепкие мужчины – фронту нужны были солдаты. В военное время создавались женские бригады, да и подросткам находилась работа.
На шахте №2 Капитальная трудился донбасский забойщик Павел Поджаров, сумевший за три года выполнить 12 годовых норм. Своему методу он обучил 115 человек, организовав бригады «поджаровцев». В КУБ по заданию Государственного комитета обороны в 1943 году приезжал и Алексей Стаханов, делился опытом, рассказывая о разделении труда в шахте, о комплексном подходе к добыче чёрного золота. Иначе крепкий кизеловский уголёк было не взять.
На оккупированной советской земле остались не только шахты, но и химические предприятия, продукция которых нужна была государству. До прихода гитлеровских войск спешно вывозилось оборудование химзаводов в Горловке, Сталиногорске и почти готового к пуску нового комбината в Лисичанске. Его принимала Губаха, так как в августе 1941 года Совет Народных Комиссаров Союза ССР решил строить здесь азотно-туковый завод.
Позже это постановление дополнило новое, подписанное председателем Совета Народных Комиссаров СССР Иосифом Сталиным. В документе под номером 324 от 11 января 1942 года утверждалась мощность будущего предприятия.
На площадке в двух километрах от коксохима должны были появиться цеха синтеза аммиака, слабой и крепкой азотной кислоты, крепкой серной кислоты, а ещё цех аммиачной селитры, который должен был работать во время остановок цехов крепкой серной и крепкой азотной кислот.
Первую продукцию губахинского завода пока на привозном аммиаке ждали уже 1 октября 1942 года. Вторая очередь в составе цеха синтеза аммиака войти в эксплуатацию должна была к 1 января 1943 года.
Строители в Губахе, как и шахтёры, трудились самоотверженно и цель у них была общая – ради Победы.
Вот только губахинскому азотно-туковому заводу так и не суждено было появиться. В Великой Отечественной войне произошел перелом: до победного парада было ещё далеко, но первые населённые пункты советские войска стали отвоёвывать у врага. В освобождённые заводы возвращались из эвакуации люди и оборудование. Строительство замерло. Тем, кто ещё остался на губахинской площадке, дали новое задание: вместо возведения заводских корпусов расчищать место под жилые дома. Это стало началом рождения посёлка Северного.
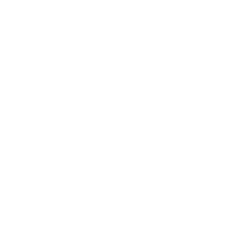
Геннадий Иванович
по профессии инженер-технолог основной химической промышленности, кандидат технических наук (1963 г.), заслуженный химик СССР (1969 г.), Украины (1984 г.), почетный гражданин
г. Северодонецка (1981 г.).
С 1929 по 1960 г. работал на предприятиях химической промышленности, в том числе директором Кемеровского, Горловского,
Губахинского химических предприятий, Лисичанского химического комбината (сейчас — Северодонецкое государственное
производственное предприятие «Объединение Азот»). В 60-х
годах работал заместителем председателя Украинского Совета
народного хозяйства, министром химической промышленности
Украины.
В годы Великой Отечественной войны Г. И. Вилесов работал
директором Губахинского химического завода (1942–1943 годы).
Под его руководством было принято и сохранено эвакуированное
оборудование Горловского азотно-тукового завода (ныне ОАО
«Концерн Стирол» г. Горловка).
Салют Победы отгремел. Советский народ взялся за выполнение новой задачи – восстановление разрушенной страны. В правительстве решили вернуться к строительству химического завода в Губахе. Правда, с корректировкой: из азотно-тукового предприятие стало химическим. Изменение профиля утвердили приказом № 246, датированным 6 сентября 1945 года.
Вновь, как в начале 40-х, в Губаху потянулись эшелоны. Более тысячи вагонов из Европы шли в уральскую глубинку. Теперь на Страну Советов должно было работать оборудование с заводов побеждённой Германии.
Для будущего Губахинского химического завода сложилось всё как нельзя лучше. Во-первых, в списке предприятий, отходивших по репарации СССР был метанол-толуольный завод крупного химического концерна «И.Г. Фарбениндустри», во-вторых, в группу специалистов, изучающих доставшиеся стране предприятия, были люди, причастные к строительству азотно-тукового губахинского завода. Это супруги Барские, Г.М. Курт и Г.И. Вилесов. Проект будущего химического завода делала Эмма Барская: из немецкого оборудования предстояло создать производство толуола и метанола мощностью 50 тысяч тонн в год.
Встречал репарационное оборудование и руководил возобновлением стройки в Губахе директор химзавода Абрам Лифшиц.

Абрам Эммануилович
С 1929 по 1960 г. работал на предприятиях химической промышленности, в том числе директором Кемеровского, Горловского,
Губахинского химических предприятий, Лисичанского химического комбината (сейчас — Северодонецкое государственное
производственное предприятие «Объединение Азот»). В 60-х
годах работал заместителем председателя Украинского Совета
народного хозяйства, министром химической промышленности
Украины.
В годы Великой Отечественной войны Г. И. Вилесов работал
директором Губахинского химического завода (1942–1943 годы).
Под его руководством было принято и сохранено эвакуированное
оборудование Горловского азотно-тукового завода (ныне ОАО
«Концерн Стирол» г. Горловка).
Слово «оборудование» рисует в воображении упакованные в ящики механизмы. Выгруженные же вдоль железнодорожных путей и на площадках рядом со строящимся заводом агрегаты из Германии больше напоминали груду хаотично сваленного металла. Изучали немецкий, разбирались что к чему, доукомплектовывали, восполняя потерянное в пути, ремонтировали сломанное, а затем собирали.
К началу 1949 года директором Андреем Маслобойщиковым (товарища Лившица перевели в Москву) была выстроена структура предприятия и сформирован штат, налажен учёт и составлена номенклатура хранящегося на площадках оборудования. Коллектив завода состоял из 159 рабочих, в заводоуправлении трудились 39 человек, инженерно-технических работников было 11.
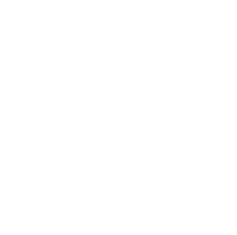
Андрей Сергеевич
С 1929 по 1960 г. работал на предприятиях химической промышленности, в том числе директором Кемеровского, Горловского,
Губахинского химических предприятий, Лисичанского химического комбината (сейчас — Северодонецкое государственное
производственное предприятие «Объединение Азот»).
На смену А. Маслобойщикову (как и предшественник, он пошел на повышение - Губахинский химзавод для многих стал стартовой площадкой) назначили Виктора Ермакова. При нём существовала железная дисциплина, всё было посчитано, проанализировано, пронумеровано. Табельные номера получили все сотрудники завода.
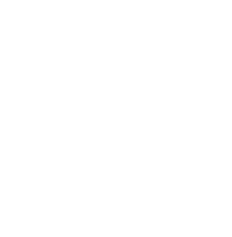
Виктор Васильевич
С 1929 по 1960 г. работал на предприятиях химической промышленности, в том числе директором Кемеровского, Горловского,
Губахинского химических предприятий, Лисичанского химического комбината (сейчас — Северодонецкое государственное
производственное предприятие «Объединение Азот»).
В активную фазу строительство вошло в 1951 году, когда Министерством химической промышленности СССР было принято решение о запуске на Губахинском химическом заводе опытной установки по производству толуола. Решение-то приняли, а вот в срок реализовать его не получилось.
Начальником опытной установки был назначен М.Н. Бакин, а начальником лаборатории Н. Бодров. Комплектация штата на установку началась в 1952 году с приездом молодых специалистов и техников из Перми, Томска и других городов. Из Перми приехали Н. Плюснин, И.П. Шубенцова, Н. Житникова и я. И назначены были старшими сменными химиками.
В эксплуатацию опытная установка по производству толуола была запущена.
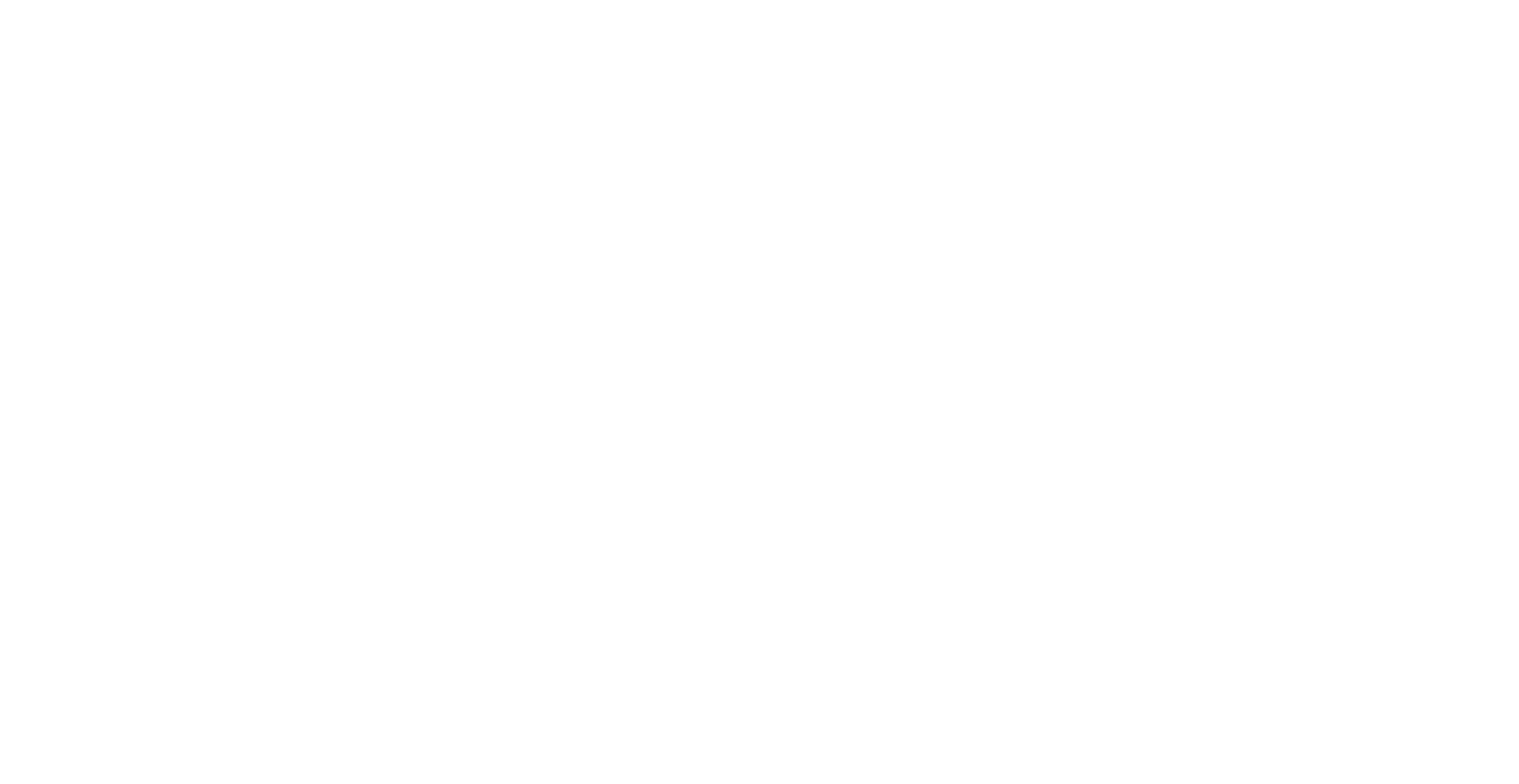
Следующим шагом стала сдача в эксплуатацию первой очереди строящегося Губахинского химического завода: получение первой продукции установки толуола.
Это ответственное дело директор завода не побоялся поручить пусковой группе, состоящей из молодых специалистов. В неё вошли Пачгин, Ермаков и Кисляков.
Приказ из Москвы №555, подписанный заместителем министра химической промышленности А. Миловановым, подтвердил рождение Губахинского химического завода.